

Российское высшее образование резко сменило курс: вместо интеграции в глобальную науку ориентация на внутренние нужды и технологический суверенитет. SETTERS Media поговорил с представителями университетов о том, ждут ли российские вузы быстрые изменения, почему высшее образование все чаще сравнивают с ПТУ и какой навык станет главным в будущем.
{{quote1}}
За последние 25 лет российское высшее образование прошло сложный путь трансформаций. Государство неоднократно запускало масштабные программы, стремясь сделать университеты более динамичными и готовыми к изменениям. Однако события 2022 года резко изменили траекторию развития: перед вузами поставили новые задачи, связанные с технологическим суверенитетом и переориентацией на другие международные связи.
Казалось бы, университеты должны были быть готовы к изменениям: долгие годы велась работа по подготовке управленцев, создавались программы развития, транслировалась идеология «гибкого университета». Но оказалось, что реальная готовность меняться невысока.
«Сейчас изменения наступили. Готовы ли к этому университеты? Кажется, по-прежнему нет»
Если до 2022 года общий вектор развития был направлен на глобализацию и встраивание в международную академическую среду, то теперь задачи сместились к обслуживанию внутренних экономических потребностей. Главная цель — участие университетов в развитии технологического суверенитета. Для многих вузов это стало поворотом на 180 градусов. Возникает вопрос: достижима ли эта цель? Ведь научное развитие предполагает международный обмен, а диалог со старыми партнерами из Европы и США оказался фактически разорван. Государство предлагает ориентироваться на новые центры науки, прежде всего на Китай и страны Азии.
«У государства не так много инструментов, чтобы отслеживать, в ту ли сторону меняются университеты. Многие показатели легко имитируются»
Университеты научились создавать видимость преобразований: увеличивать число патентов, малых инновационных предприятий, формально перестраивать учебные программы. Но реальных глубоких изменений это часто не приносит. Более того, сами государственные регуляции тормозят гибкость: любая перестройка требует длительного согласования, а система по своей природе остается инерционной.
С начала 2010-х ключевым направлением в сфере образования была интернационализация науки. Благодаря разнообразным программам поддержки молодое поколение российских ученых смогло включиться в мировую науку и научилось публиковаться в международных журналах.
«Если бы не усилия университетов и грантовых фондов, процесс выхода в международное научное пространство занял бы гораздо больше времени»
Но вместе с ресурсами университеты утратили автономию. Государство выстроило вертикаль управления, при которой ключевые должности университетов перестали быть выборными, а стали назначаемыми. В результате вузы стало легче перенаправить на новые государственные приоритеты. Основное внимание сосредоточено на дисциплинах, способных поддерживать технологическое развитие. Социальные и гуманитарные науки оказываются на периферии.
«В социальной науке пользы не видят. Одна из задач — сократить этот сектор»
Системы регулировки остаются прежними: закрытие диссертационных советов, уменьшение бюджетных и платных мест, сокращение грантов. Интересное исключение составляет история, которая рассматривается как политически важная дисциплина. А эмиграция многих ученых из социально-гуманитарных наук воспринимается властями не как потеря, а как «естественное» сокращение ненужного сектора.
{{slider-gallery}}
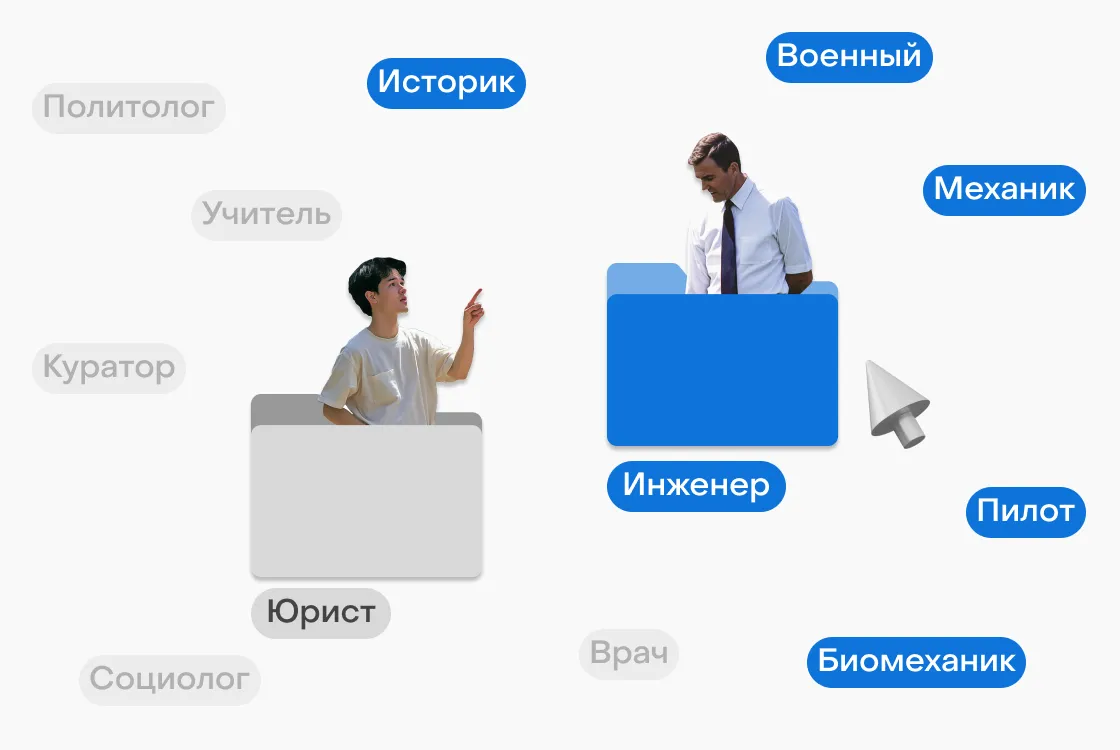
Существует фундаментальное противоречие между современными требованиями государства и природой университетов.
«Фундаментальные знания — это про стабильный сбор знаний и передачу их новым поколениям. Гибкость и быстрые изменения плохо укладываются в эту логику»
Студенты и профессора — не источники запроса на быстрые изменения. Реальный спрос формируют корпорации и экономический сектор, заинтересованные в подготовке специалистов под конкретные задачи. Отсюда возникает новый феномен — корпоративные университеты, создаваемые индустриальными партнерами. Они конкурируют с классическими вузами, предлагая практико-ориентированные программы. Но их успех ограничен: они охватывают узкие сегменты, прежде всего IT и технологии.
Несмотря на новые ожидания, университет остается организацией, где изменения происходят медленно.
«Университет — это слабо сцепленная конструкция: разные факультеты, центры, школы замкнуты сами на себе. Разрыв между ректоратом и тем, что происходит в аудитории, очень большой»
Раздробленность и инерция университетов противоречат идее быстрых и радикальных изменений. Даже если государство задает новые векторы, внутри университетов они распространяются медленно и неравномерно.
{{quote2}}
Высшее образование сегодня стоит перед серьезными вызовами. Мир быстро меняется, и университетам приходится искать баланс между устойчивостью и гибкостью.
Еще недавно диплом о высшем образовании был одним из главных показателей квалификации. Но сейчас работодатели все чаще смотрят не на формальные документы, а на реальные навыки.
«Сегодня важен не диплом как знак, а умение адаптироваться и действовать в быстро меняющемся мире»
Компетенции становятся динамическими: набор навыков не фиксируется «в мраморе», а должен регулярно пересматриваться. Это требует от университетов иной логики — быстрее реагировать на запросы рынка и интегрировать новые формы обучения.
Например, искусственный интеллект в образовании — одновременно риск и возможность. Как когда-то калькуляторы серьезно повлияли на обучение математике, так и нейросети меняют привычные учебные практики. Но главное не в том, чтобы «бороться» с технологиями, а в том, чтобы научиться с ними работать.
«Будущее конкурентоспособности — не в запоминании фактов, а в умении задавать вопросы и ставить задачи искусственному интеллекту»
Мы наблюдаем появление новых диспропорций, возникающих под влиянием ИИ: одни люди теряют позиции, другие неожиданно получают преимущества.
Меняются и сами студенты. Они меньше мотивированы оценками и больше — проектами и практикой. Многие хотят быстрее применять знания и работать в команде.
Здесь недооцененным остается среднее специальное образование: колледжи и техникумы дают хорошую практическую подготовку и все чаще становятся достойной альтернативой классическому университету.
В ближайшие годы преподаватели будут работать не только со студентами, но и с их цифровыми помощниками. Уже сейчас появляются системы, которые помогают персонализировать обучение.
«Преподаватель будущего — это не только наставник студента, но и модератор его взаимодействия с цифровым куратором»
{{slider-gallery}}
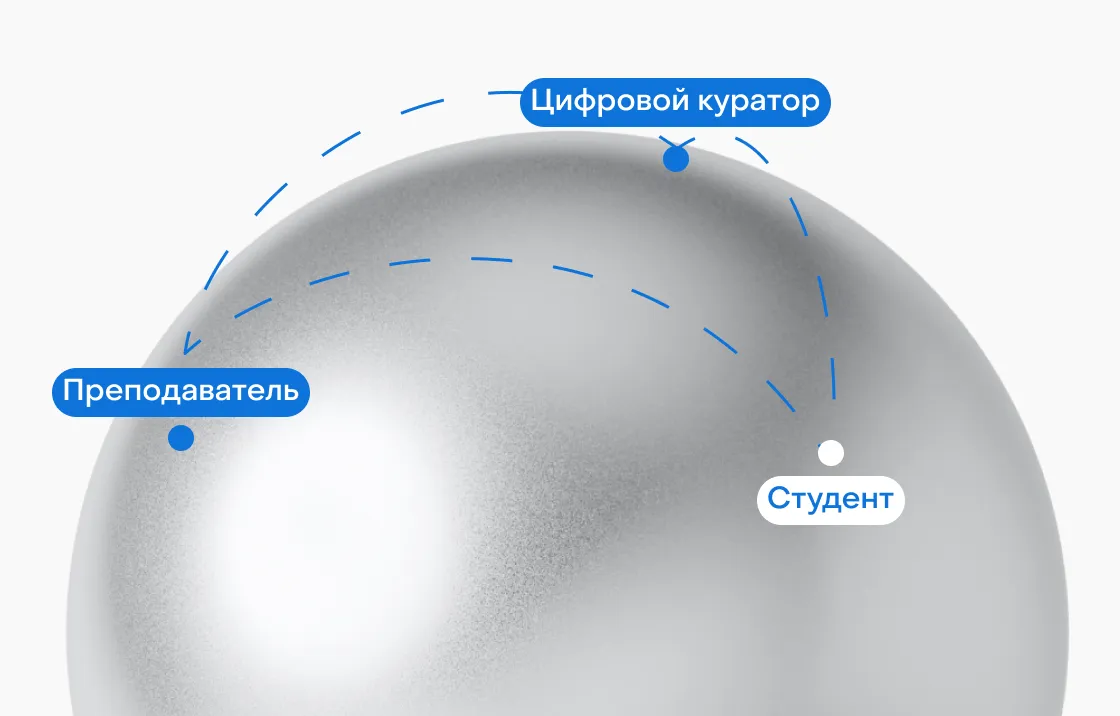
Однако у системы высшего образования есть слабое место: она слишком инерционна. В мире, где компетенции устаревают за несколько лет, медлительность становится риском.
Их задача не только в том, чтобы закрывать текущие потребности бизнеса.
Университеты и корпорации как бы дополняют друг друга. Первые формируют системное мышление и ценности, вторые дают быстрые прикладные навыки.
Будущее образования формируется через научно обоснованный форсайт: на пересечении технологий, новых поколений студентов и запросов рынка. Университеты сохраняют ценность там, где нужно воспитывать системное мышление и глубинные знания. А успех будет зависеть от того, насколько быстро мы научимся «оседлывать» новые технологии и обновлять портфель компетенций.
{{quote3}}
После 2022 года главным вызовом для университетов стало не столько обучение студентов, сколько научное сотрудничество. Переформатировалась структура грантов, совместных исследований, совместных проектов. С одними университетами работа прекращалась, с другими — наоборот. Это изменение ландшафта взаимодействия.
«Как будто русло реки поменялось и ручейки должны были заново искать выход к большой воде»
На студентов-бакалавров эти перемены почти не повлияли. Гораздо сильнее изменения сказались на магистратуре и аспирантуре, где обучение тесно связано с исследовательской деятельностью. Университеты и лаборатории начали активно искать новых партнеров, чаще внутри страны.
Важный сдвиг произошел и в оценке науки. Раньше мы гордились попаданием в международные рейтинги, в программу «5-100». Теперь говорят: давайте выработаем другие критерии. Фактически идет переформатирование научных KPI.
«Наука всегда должна быть общей, а ученый — находиться в среде таких же ученых»
Отказ от рейтингов снижает интеграцию в мировую науку. Вместо стремления к универсальности все чаще появляются прикладные метрики и узкие показатели, которые отражают лишь текущие запросы государства или бизнеса.
Существует мнение, что университеты постоянно отстают от рынка. Но это не так: за последние 20 лет сменилось уже два поколения специалистов и вузы стали довольно динамичными. В больших университетах движение идет и сверху, и снизу. Это не структуры, которые застыли и не способны отвечать на вызовы времени.
Проблема в другом: индустрия быстро забирает к себе молодых специалистов. Те, кто хотел бы преподавать, не всегда могут это делать полноценно. Зарплаты в вузах несопоставимы с ИТ-сектором, и поэтому нехватка преподавателей остается хронической.
Сегодня университеты выпускают отличных прикладных специалистов, готовых работать уже со второго курса. Но вместе с этим образование стало напоминать ПТУ.
Студенты воспринимают обучение как набор быстрых навыков, которые позволят сразу выйти в индустрию. Магистратура потеряла академический смысл и воспринимается как еще два года прикладных курсов. Частные курсы и корпоративные программы только усилили эту тенденцию. Крупные компании создают собственные образовательные центры — по сути, отраслевые техникумы в новой форме.
{{slider-gallery}}

Рынок переполняется людьми с одинаковым стеком инструментов и одинаковыми словами в резюме. Это хорошие исполнители, но не архитекторы.
Очаги академизма — небольшие исследовательские школы и кафедры — остаются редкостью. Именно они способны становиться ядрами новых направлений в науке и прикладных сферах.
«Если все будут только учиться пользоваться готовыми инструментами, а не создавать новые, мы останемся в положении, где есть лишь практические навыки и никакой науки»
Мы получили зеркальное отражение собственных мечтаний. В девяностые годы говорили, что университеты готовят никому не нужные кадры. Теперь все наоборот: выпускники мгновенно находят работу. Но фундаментальные исследователи — люди, которые создают новое, — в дефиците.




