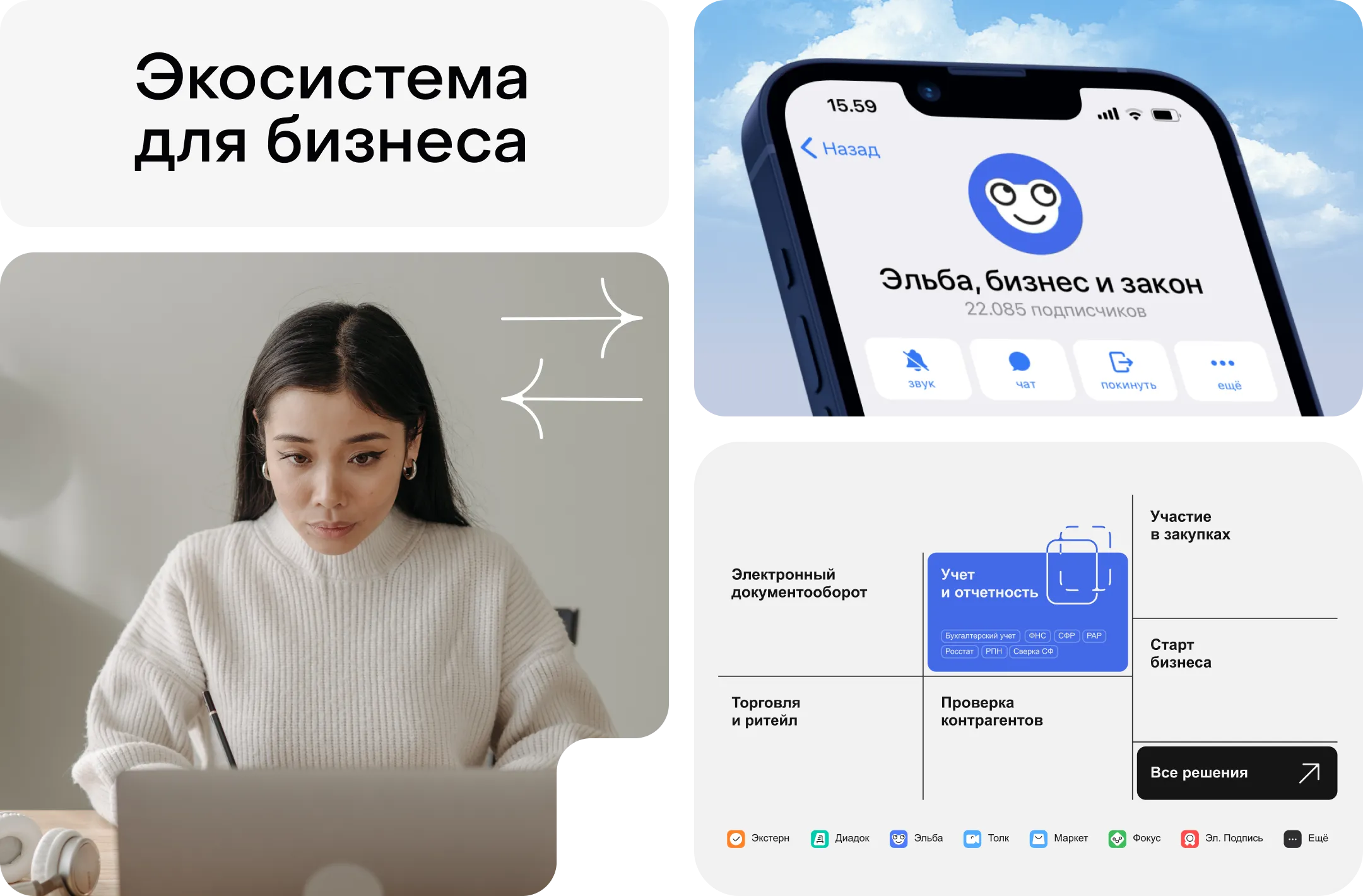На следующей неделе в издательстве НЛО выходит книга историка науки Франческо Паоло де Челья «Вампир. Естественная история воскрешения» — исследование истории мирового увлечения романтическими кровопийцами, благодаря которому мы дожили до «Реальных упырей», «Сумерек» и «Интервью с вампиром». Но пусть никого не пугают важные должности автора. «Вампир» — это плутовской роман, детектив и комедия — просто основанные на великолепных источниках. С разрешения издательства SETTERS Media публикует отрывок из книги — о зарождении «вампирской паники» в Европе в XVIII веке.
«Я открыл глаза. Кругом тьма, непроглядная тьма. Я знал, что припадок кончился. Знал, что кризис давно миновал. Знал, что теперь я вполне владею способностью зрения. И все-таки кругом была тьма — кромешная тьма, полное, совершенное отсутствие света, ночь, которая никогда не проходит. Я попытался крикнуть: губы мои и пересохший язык судорожно зашевелились, но никакого звука не последовало; мои легкие, точно придавленные целой горой, сжимались и трепетали вместе с сердцем при каждом мучительном и прерывистом вздохе. Я попробовал открыть рот, чтобы крикнуть, но почувствовал, что челюсти мои подвязаны, как у покойника». Отчаяние. Всеохватное отчаяние того, кто осознает, что погребен заживо. Так Эдгар Аллан По в знаменитом рассказе 1844 года «Преждевременное погребение» описывал этот ужас. Конечно, рассказ По — литературный вымысел, но он отражал реальную фобию, охватившую Западную Европу, почти одновременно с первыми сообщениями о вампирах. Эти страхи настолько переплелись, что многие задавались вопросами: а что, если вампиры вовсе не мертвецы, а люди, ошибочно признанные умершими, заживо погребенные, а затем пробудившиеся в могилах? Что, если они — живые, но изможденные и обезумевшие, поднялись из земли, а их принимают за выходцев с того света? «Их кровь, свежая и алая, гибкость конечностей, крики, которые они издают, когда им пронзают сердце или отрубают голову, — все это доказывает, что они еще живы». Даже такие теории, предлагавшие рациональное (и не важно — верное или нет) объяснение вампиризма, привлекли внимание Кальме. Он искал ответы, но с позиций своего, особого рационализма.
О мнимой смерти и преждевременных погребениях говорили если не всегда, то с очень давних пор. Прекрасная героиня «Повести о Херее и Каллирое» Харитона Афродисийского (I–II века н. э.) считается, пожалуй, первой в западной литературе, кому выпал жуткий жребий — быть погребенной заживо. С веками эта тема сделалась очередным литературным приемом, запускающим сюжет в самых разных жанрах. Однако с середины XVIII века истории о трупах, у которых обнаруживали следы посмертного пробуждения — царапины на крышках гробов, скрюченные конечности, — стали восприниматься уже не как вымысел, а как реальные события. Конечно, в зависимости от региона менялась и частота возникновения этих историй. Но факт остается один: в них верили.
Именно в Париже эти истории получили новый поворот. В 1740 году знаменитый датский анатом, поселившийся во Франции, Жак-Бенинь Винслоу (Якоб Винслов) опубликовал краткий «Медико-хирургический трактат», где, изучив известные случаи преждевременных захоронений, объявил разложение единственным достоверным признаком смерти. Вскоре его труд был переведен на французский врачом и латинистом Жак-Жаном Брюйе д’Абленкуром, который дополнил его обширной «Диссертацией о ненадежности признаков смерти и злоупотреблениях бальзамированием и преждевременными погребениями». Книга разлетелась мгновенно. Более того, с 1742 по 1749 год она разрослась до тысячи страниц: в нее вошли самые невероятные и жуткие случаи, которые автор проанализировал и подтвердил.
На фоне столь болезненного интереса к вампирам и погребенным заживо разгорелись жаркие споры. Как бы ни развивалась дискуссия, в итоге общество сошлось на том, что мнимая смерть — не исключение, а правило. Умирание — не мгновенный акт, а процесс, включающий «промежуточную смерть», теоретически обратимую. Как, по мнению некоторых, случилось и со смертью Христа, который столь скоро воскрес. Если раньше люди не замечали этого пограничного состояния, то лишь потому, что обычно оно длилось мгновения. Но все же в некоторых случаях «умирание» затягивалось на дни или даже месяцы, подвергая человека риску быть погребенным заживо.
Так зародилась социальная фобия, которая за полтора века распространилась из Франции в Германию, Англию и США. Проявлялась она по-разному: завещания, обязывающие наследников удостовериться в смерти завещателя хирургическим путем68; предложения ввести кремацию или Herzstich (прокол сердца) — метод, изначально направленный против «оживших мертвецов», но убивающий и тех, кто мог находиться в состоянии мнимой смерти, избавляя их от страшного пробуждения в могиле69; «дома ожидания», где бы трупы оставляли на время, наблюдая за признаками жизни, пока разложение не подтверждало бы окончательную смерть; «безопасные гробы» с механизмами, поднимавшими флажок или звонившими в колокольчик при малейшем движении «покойника»; гротескные методы «реанимации» — от клизм с табачным дымом до электрических разрядов, пытавшихся вернуть к жизни тех, у кого не было на то ни малейшего шанса. Мы начали с Дракулы, а пришли к Франкенштейну.
То, что успех «Трактата» Кальме и «Диссертации» Брюйе д’Абленкура совпали по времени, не случайно. Оба текста во многом породили и укрепили фобии эпохи, сделавшись, если можно сказать, «готикой до готики». XVIII век стал временем антропологического перелома в восприятии смерти. Развитие гигиены, наука, рационализм — все это привело к тому, что указом Наполеона, известным как Эдикт Сен-Клу 1804 года, мертвых изгнали из городов живых. Наконец-то они обретали собственные города.
Учреждение загородных кладбищ стало высшим выражением кризиса отношений со смертью и одновременно главным инструментом проработки страхов в XIX веке. По крайней мере, для тех самых «буржуазных» слоев общества — основных читателей Кальме и д’Абленкура, — для которых определяющими оказались перспективы, открытые Просвещением, и надежды, внушенные оптимистичными научными изысканиями, позволявшими предположить, что момент смерти возможно отсрочить. Вероятнее всего, на городских буржуа повлияли дальнейшее осознание своего «я» и новое понимание ценности жизни. В этом контексте любая кончина воспринималась как нечто разрушающее и пугающее. Смерть превращалась, по выражению Робера Фавра, в «нежеланную гостью».
Церковь, по крайней мере во Франции, откуда эти тревоги и распространились, столкнулась с трудностями в исполнении своей роли посредника между живыми и мертвыми — роли, которую и без того ей приходилось периодически переосмыслять. Возможно, отчасти потому, что в управлении смертью и ее силами ей теперь помогала медицина, которая до XVIII века редко занималась этим вопросом. Не исключено, что именно поэтому сама Церковь (духовенство, теология, религиозная литература) попала в ситуацию, когда она говорила на языке, уже непонятном ее собеседникам. И это ярко проявилось в издательском успехе «Трактата» Кальме: он был написан как религиозная книга, оспаривающая любые представления о вампирах, однако же новое фантастическое воображение людей приняло текст аббата как сборник страшных и — почему нет? — правдивых рассказов. Читатели искали в его книге не богословие, а жуткие истории — потому что именно они волновали и тревожили.
Бесспорно одно: смерть снова стучалась. В двери домов. Или из гробов. И читающая публика приходила в ужас при мысли о вампирах и все чаще и чаще размышляла о собственной смерти или кончине близких, боясь преждевременного погребения. Неотвратимость смерти снова стала проблемой в Западной Европе: именно поэтому вести о восставших из могил в центрально-восточной части континента находили такой отклик. Они затрагивали больное место. Общество создало дискурс, в который вовлекало теологов, врачей, военных и прочих. Считалось, будто они рассуждают об эпидемиях вампиризма, гигиенических нормах и предотвращении преждевременных захоронений, но на самом деле люди говорили о своих страхах. И контрапунктом звучало только одно: «Смерть снова стала загадкой, и мы должны попытаться понять ее, то есть приручить».
В «Трактате» аббат Кальме, по своему обыкновению, сначала все подробно излагал, а затем высказывал сомнения и возражения. Так, цитируя диссертацию Брюйе д’Абленкура, он сообщал, что «это сочинение может послужить объяснением тому, как люди, считавшиеся умершими и погребенные, оказывались живыми спустя долгое время после своих похорон. Возможно, это сделает вампиризм чуть менее невероятным». Кто знает, сколько читателей остановились на этих словах, решив, что автор соглашается с теорией, будто мнимая смерть приводила к пробуждениям, которые невежественные люди потом принимали за вампиризм.
Но Кальме был непоколебим в своем стремлении развенчать такое толкование. Он пояснял, что «живой» вид тела и сохранение в нем жидкостей могли быть следствием болезни, разжижавшей кровь. Что рост ногтей и волос объяснялся, возможно, остаточной микроциркуляцией жидкостей. И что, даже если допустить, будто мнимая смерть играла какую-то роль в вампиризме, множество вопросов все равно оставалось без ответа:
Как они выходят из могил? И как возвращаются обратно, не оставляя следов раскопанной земли? Или они ее аккуратно присыпают за собой? Как они могут ходить, являться к живым и есть вместе с ними? И если уж они оживают, зачем тогда возвращаться в могилы? Почему не остаться среди живых? Зачем высасывать кровь у родных? Зачем преследовать и изматывать тех, кого они должны бы любить и кто не причинил им зла?
Вполне справедливые вопросы, способные зародить сомнение в вере в вампиров. Однако Кальме уточняет один момент: независимо от мнения обывателей, от науки о реанимации, которая порой заявляла о «воскрешении» мертвецов, «этих людей нельзя считать истинно воскресшими: они либо не умирали вовсе, либо смерть их была лишь кажущейся». Словом, что бы ни твердили самоуверенные ученые и эмоционально вовлеченные офицеры, смерть — это рубеж, за которым нет возврата: hic sunt leones. И на этом Церковь стояла непреклонно.