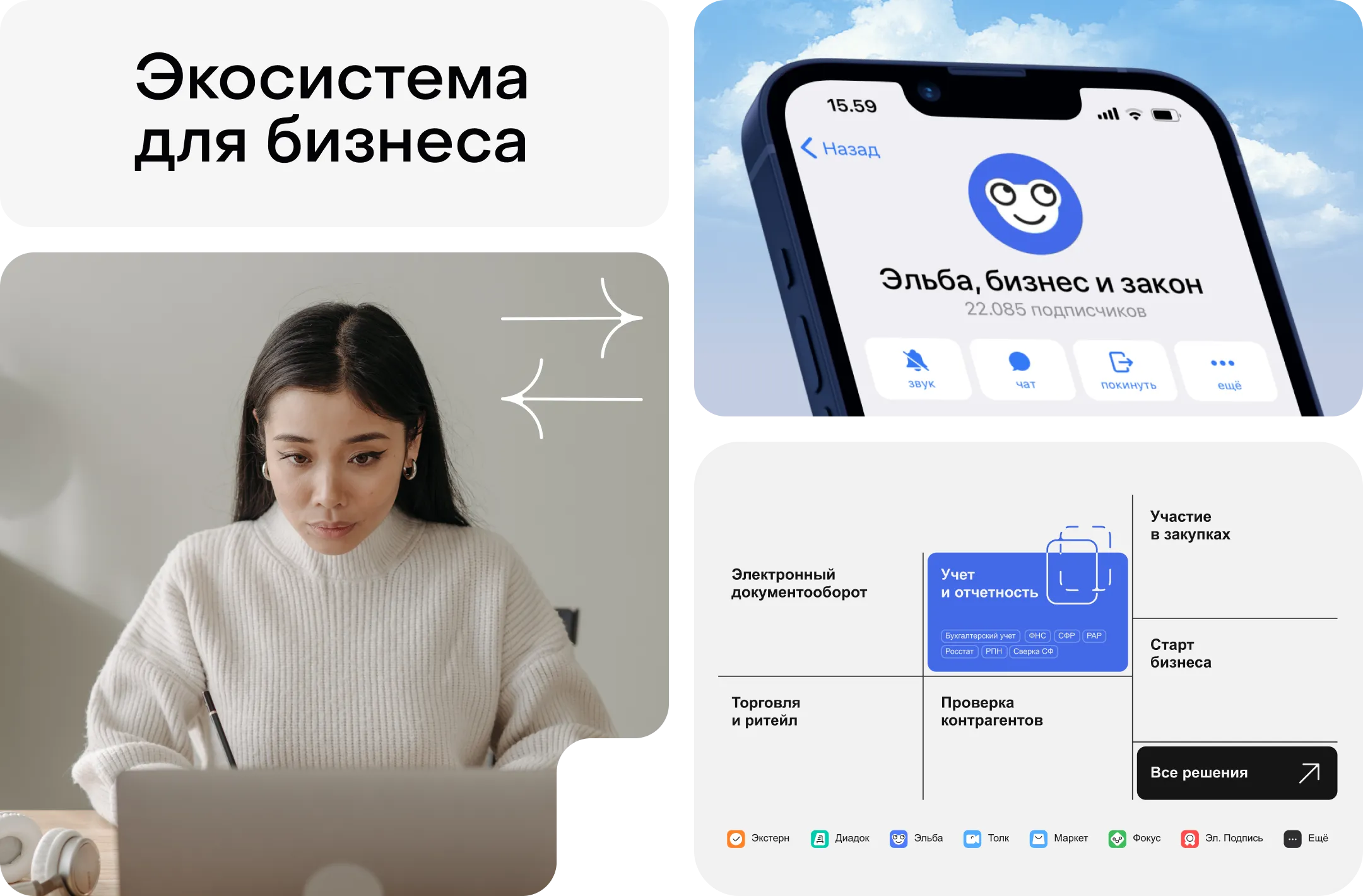2024-й подходит к концу, а значит, сезон подведения итогов и списков лучшего не за горами. По просьбе SETTERS Media журналист и исследователь поп-культуры Никита Солдатов разобрался в наших love/hate-отношениях с ними и изучил, откуда берут начало ненавистные рейтинги (спойлер: примерно от начала времен).
Кругом бесконечные списки и рейтинги. «10 богатейших животных планеты» и 10 заповедей; «11 веселых фактов о Палестине» и «29 великих мемов с Му Денг» (мемы неважные, а бегемотша и впрямь великая); «95 тезисов», которые в 1517 году Мартин Лютер приколотил к храмовым дверям и запустил Реформацию, и 33 способа избежать преждевременного захоронения, которые в 1816-м опубликовал некто Джозеф Тейлор; рейтинги главных художников по версии Джорджо Вазари, лучших ресторанов по версии производителя шин Michelin и самых сексуальных мужчин по версии журнала People; список кораблей в «Илиаде», список Шиндлера, список покупок, список друзей в запрещенной соцсети, список 12 шагов анонимных алкоголиков и так далее, и так далее.
Умберто Эко называл списки «исходной точкой искусства и литературы», Дон Делилло — «видом культурной истерии», в The New Yorker еще десять лет назад предсказывали смерть больших журналистских форм из-за статей-списков, а в Buzzfeed взяли идею на карандаш и построили медиаимперию на перечислении «20 самых важных енотов» и «15 бывших звезд, которых все справедливо ненавидят».

Бесконечные списки и рейтинги были всегда, но именно сейчас (то есть последние лет 30) они кажутся основным инструментом анализа окружающей действительности: если не разобьешь тему на симпатичные, удобоваримые пункты, начиная желательно с самого важного, никто, кроме обладателей редчайшего навыка концентрировать внимание больше минуты, ее не поймет.
Как так вышло и так ли все страшно? Рассказываем в нашем списке.
Да, в начале было несколько слов — и слова эти были выстроены списком. По крайней мере, если говорить о тех текстах, что дошли до нас. Самые древние из них — шумерские глиняные таблички третьего тысячелетия до нашей эры — как раз списки всякой всячины (сколько гончаров и мастеров по металлу в округе, сколько зерна и рыбы осталось, а сколько не хватает, чтобы всех прокормить) или просто с перечислением растений, животных или городов.

Исследователи не вполне сходятся в том, что собственно эти списки собой представляют. Может, древние завхозы и бухгалтеры перед очередной проверкой пытались свести дебет с кредитом и эти древнейшие памятники письменности — просто очень старые ведомости расхода-учета, таблицы с чеками, квитанциями и прочей ерундой. А может, это учебники для начальной школы: вот корова, она говорит «му», а за нею, предположим, крокодил — чуть ее не проглотил. Профессор нейробиологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Марианна Вулф утверждает, что «шумеры использовали списки потому, что такое упорядочение обеспечивает начинающим читателям когнитивную стратегию для более легкого запоминания символов изучаемого письма». Проще говоря, столбиком легче не только считать, но и читать. Другие, вроде того же Эко, видели в этих списках и некоторую, скажем так, поэтичность: «У человека есть предел, обескураживающий, унизительный предел: смерть. Создание списков помогает заглушить страх смерти и сделать бесконечность постижимой, упорядочив ее. Что делает человек, глядя на небо? Перечисляет звезды, потому что возможностей языка недостаточно, чтобы полностью описать, что видишь. Что делает влюбленный, когда не хватает слов, чтобы выразить чувства? Начинает перечислять: твои глаза так прекрасны, твои губы так прекрасны, а твои ключицы… Список — это заклинание, позволяющее поймать бесконечность. Наша культура порождена этими списками — и воспроизводит их без конца».
От списка к рейтингу — один шаг. Даже самые случайные списки стремятся, кажется, к иерархичности: будь то список вещей в поездку, где на первых местах всегда самые очевидные и важные (паспорт, таблетки, билет), или алфавит, который, вообще-то, тоже список — от простых и понятных до странноватых букв.
Те же шумеры составляли, например, рейтинги главных поэтических произведений — то ли снова для школьной программы, то ли на манер бестселлеров по версии The New York Times. Или довольно тенденциозные списки собственных правителей, где лишь некоторым — как будто по заказу — приписывалась родственная связь с богами.
Начиная с шумеров и далее везде рейтинги оказывались инструментом маркетинга, манипуляции или пропаганды. Списком семи чудес света древние греки зацементировали свой статус культурной сверхдержавы (пять из семерки — греческие) и создали эталон для маркетологов от культуры: именно по его образу и подобию состряпаны бесконечные рейтинги 20 холмов и 17 полян, которые надо посетить перед смертью. Или четыре главных Евангелия по версии церковных отцов с Карфагенских соборов, которые в конце III века объявили канон Нового Завета, запретили с десяток других биографий Иисуса, а распространявших запрещенку стали преследовать. Или «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих», опус магнум родоначальника искусствоведения Джорджо Вазари, у которого наиболее знаменитыми оказываются в основном итальянцы в противовес остальной Европе с ее «варварской» готикой. Но и среди соотечественников важнейшими он объявляет флорентийских художников. Что понятно, все-таки написана книга по заказу его покровителей из семьи Медичи, державшей Флоренцию чуть не 300 лет.

Из современников главным апологетом рейтингов в культуре был литературовед Гарольд Блум. Составляя свой список лучших из лучших, Блум, конечно, был не так предвзят, как Вазари, но и его «Западный канон» (1994) выглядит, мягко говоря, авторским: преимущественно белые гетеросексуальные мертвые мужчины, во главе которых шекспировед Блум поставил — внимание — Шекспира.
Еще за 100 лет до публикации блумовской книги Вирджиния Вулф уже вскрывала дискриминационную суть всех литературных иерархий: «Рискну предположить, что анонимным поэтом, сочинившим столь много, но не подписавшимся, часто была женщина». Поэтому в академических кругах и в начале 1990-х, и сейчас подход Блума выглядит скандально старомодным. Что, впрочем, не помешало его книге стать бестселлером — идея законсервировать рейтинг лучших писателей в истории, чтобы туда не попали всякие, продолжает отзываться в сердцах любителей литературы по всему миру. Так, в 2013 году, когда появились слухи о грядущей реформе школьной программы по литературе (якобы планировали убрать Куприна и Алексея Толстого и ввести Улицкую и Пелевина), члены общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление» называли авторов новой программы «врагами русского народа», устраивающими «духовный геноцид», и призывали президента вмешаться. Никакой реформы, как можно догадаться, не последовало. Канон устоял.
Среди американских — и не только — литературных работников издание Buzzfeed считается чуть не всадником апокалипсиса, который своими кликбейтными списками и рейтингами бесповоротно развратил читателей. Например, Джин Вайнгартен, многолетний колумнист The Washington Post, двукратный лауреат Пулицеровской премии, назвал статьи в виде списка главной причиной коллективной деградации американцев: «Эти наспех состряпанные писакой-халтурщиком списки подсадили нас на иглу быстрого контента и окончательно высушили наши мозги». Хотя преувеличить роль Buzzfeed в нынешней популяризации списков и рейтингов вряд ли возможно, жанр этот на самом деле вполне почтенный.
Несколько лет назад исследователи Северо-Восточного университета в Бостоне проанализировали 2,7 млн страниц из 500 американских газет XIX века и выяснили, что вирусными по тогдашним стандартам были — внимание — статьи-списки. Так, большой популярностью пользовались списки вроде «Самых страшных судеб апостолов», где в довольно откровенных подробностях описывались мучительные смерти товарищей Иисуса, и рейтинг «Век животных», где перечисляли, собственно, сколько живут домашние питомцы, среди которых тогда были волк (20 лет) и лиса (15 лет).

Впрочем, ни они, ни базфидовские списки не сравнятся с популярностью литературного рейтинга сэра Джона Леббока, впервые опубликованного в конце 1880-х.
Леббок был человек выдающийся: потомственный банкир многократно приумножил состояние своего отца и стал одним из богатейших людей в Британии; заложил основы археологии как науки, ввел понятия «неолит» и «палеолит» и сам откопал несколько динозавров; больше 30 лет был депутатом парламента и за это время успел провести законы о защите памятников древности, об учреждении публичных библиотек и ни много ни мало ввести государственные праздники (до инициативы Леббока в Соединенном Королевстве праздновались только религиозные). Помимо этого, Леббок многие годы предлагал провести реформу образования, сделать его обязательным и бесплатным, но безуспешно. Свой рейтинг «100 главных книг» Леббок задумывал как эдакий самоучитель для тех, кто образовываться хочет, но не знает, с чего начать.
Потребность в подобном оказалась колоссальной: листок Леббока — его даже не назвать пособием, это буквально список с перечислением книг, без комментариев — за 20 лет с небольшим был издан общим тиражом почти 400 тыс. экземпляров, что не снилось тогда ни Толстому, ни Конан Дойлу. Популярность своего рейтинга сам Лeббок объяснял просто: «Выбрать книгу, как и выбрать друзей, — задачка непростая. Жизнь коротка, свободного времени мало, а книг — бесконечно много».
Леббок даже пытался претендовать на объективность, но в специфической манере: Джейн Остин — единственную писательницу в списке — автор выкинул при очередном переиздании, объяснив тем, что «британских романистов и так много в списке». Зато Конфуция выкидывать не стал: «Я должен скромно признать, что не очень ценю Конфуция, однако рекомендую его книги, потому что они пользуются глубочайшим уважением у китайского народа, которого числом целых 400 млн. К тому же книги эти довольно короткие».
Вот так в своем просвещенческом порыве один британский реформатор не то чтобы выдумал, но довел до совершенства формат, из которого выросли списки бестселлеров The New York Times, хит-парады Billboard, рейтинги IMDb, «Кинопоиска», список величайших фильмов всех времен журнала Sight and Sound и так далее.
Теперь формат этот, впрочем, просветительскую функцию как будто утратил. Напротив, например, Роджер Эберт, сделавший себе имя как раз на рейтингах худших/лучших фильмов, начал считать, что они отупляют: «Сколько же раз мне еще придется объяснять, что все рейтинги, все эти списки лучших фильмов относительны, а не абсолютны? Не могут же люди и впрямь быть настолько ленивыми, чтобы воспринимать лишь идиотские оценки, полностью игнорируя контекст!»
Однако именно «леностью» человеческого мозга нейробиолог Уолтер Кинч объяснил непреходящую популярность разнообразных списков и рейтингов еще в 1968 году: «Такой тип организации текста облегчает как немедленное понимание, так и последующее припоминание информации по сравнению с тем, когда она недефференцирована». Современные исследователи добавляют: списки лучшего и рейтинги эксплуатируют FOMO, боязнь пропустить что-то важное, главную напасть современного человека. Хочешь не хочешь, но как не тыкнуть по ссылке, обещающей «13 подтвержденных наукой способов побороть лень».

Списки и рейтинги — это информационный фастфуд, который, впрочем, идеально усваивается: приятный способ сократить объем работы для мозга, распределить, на что, помимо сна и работы, потратить драгоценные 10 800 минут каждой недели, и справиться с энтропией окружающего мира, урезав его до выполнимых задач.
В ситуации перманентного ожидания апокалипсиса, когда из-за угла на тебя выпрыгивает то чума, то война, то экономический, то экологический, то кризис среднего возраста, списки и рейтинги вроде «15 лучших задниц Голливуда» и впрямь могут оказать хоть минимальный терапевтический эффект и на сантиметр отодвинуть от нервного срыва. Важно, однако, понимать: руководства к действию, как справиться с чумой, войной или экзистенциальным кризисом, в этих или других сколь угодно священных списках не найти. Что, впрочем, не уменьшает их культурной роли: может быть, через пять тысяч лет рейтинг «29 великих мемов с Му Денг», как шумерские списки на глиняных табличках, тоже будет важнейшим артефактом человеческой истории.