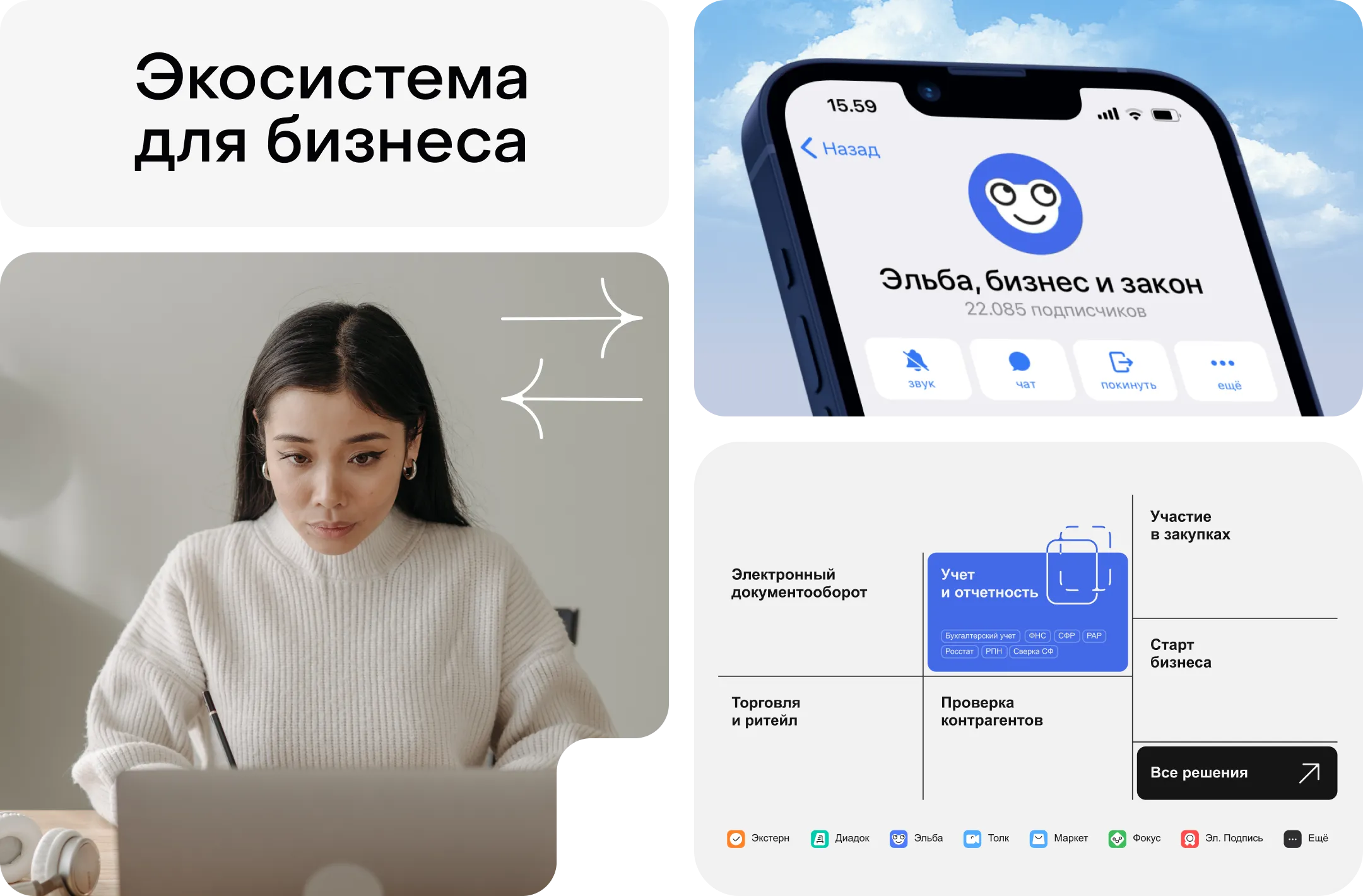Писательница Оксана Васякина («Рана», «Степь», «Роза») — о том, зачем мы читаем автобиографическую прозу, почему она часто не убежище, а усилие, и что дает нам щедрость к чужому опыту.
Я часто слышу и читаю возмущенные реплики в сторону автофикшена. Многих пугает откровенность, сбивчивость и бесстыдство, с которым авторки и авторы пишут о себе и своих близких. Кто-то называет автофикшен необработанным дневником и записками, кто-то, наоборот, встретившись с этим типом письма, с жадностью начинает читать все больше и больше.
Я использую слово «автофикшен» из удобства, мне самой ближе понятие «автобиографическая проза», которое использовала Лидия Гинзбург, она одна из первых на русском языке осмысляла жанр мемуаров и записок. Само слово «проза» в этом термине указывает на компоновку материала, это значит, что эффект достоверности таких текстов создается благодаря тщательному выбору языка и композиции произведения. «Проза» говорит нам: вы обязаны помнить о зазоре между голосом, звучащим в тексте, и личностью автора.
Гинзбург изучала и теоретизировала автобиографическую прозу на протяжении всей жизни, в том числе писала художественные тексты. В 1971 году, еще до Филиппа Лежена («Автобиографический договор», 1975) и Элизабет Брюс («Автобиографическое событие», 1971), она опубликовала свою работу «О психологической прозе», в которой провела анализ мемуаров Анри Сен-Симона, Жан-Жака Руссо и Александра Герцена. Гинзбург выявила влияние современных автору идей и эстетического мейнстрима на личность повествователя в тексте. Сейчас я пишу это, чтобы обратить внимание критиков автофикшена на то, что автобиографическая проза и ее осмысление укоренены в истории русской литературы и являются ее полноправной частью.

Литература никогда не была изолирована от общества, медиа и политики. Это не кристальный шар в вакууме, в котором самозарождается прекрасное и возвышенное. Но мы часто относимся к ней потребительски: просим книгу спрятать нас, требуем дать ответы на все вопросы, считаем, что она должна подчиниться нашему представлению о том, какой она должна быть.
Мне нравится сравнивать литературу с землей. Опавшие листья, трупы животных и птиц, неорганический мусор оказываются на и в земле. Земля переваривает их. Медленно превращает в перегной. Для некоторых объектов земле нужны годы, иногда тысячелетия. Но таково время метаболизма земли.
Сокрушаясь о том, что скорость земли не удовлетворяет моих запросов, я одергиваю себя и спрашиваю: кто я такая, чтобы предъявлять претензии? Мое время здесь слишком короткое, и мое дело — лишь участвовать в метаболизме. Я не могу его ускорить или замедлить. Я могу только поддержать его.
Я часто провожу время в лесу недалеко от моего дома и наблюдаю за тем, как медленно течет время. После того как ты в жа́ре тревоги один за другим листаешь новостные каналы, не так-то просто начать смотреть, как под легким дождем мокнет осколок сосновой коры. Необходимо применить усилие.
Полтора года назад я впервые пришла в лес, чтобы немного посидеть без интернета. Лицо горело, веки, казалось, были натерты наждачной бумагой. Перед собой я не видела ничего, кроме вспыхивающего и гаснущего белого экрана. Я села на поваленное дерево и попробовала послушать хотя бы одну птичью трель. Но шум в моей голове не давал этого сделать. Я начала ходить в лес ежедневно. Мне некуда было больше идти. А идти в людные места было бессмысленно. Я просто приходила на небольшую поляну, садилась на влажный ствол дерева и смотрела перед собой.
В один из таких визитов мне удалось услышать пение птицы. И увидеть, как тень от крон деревьев медленно двигается по желтой мульче. Почувствовать запах.
Все, что я пишу здесь, может звучать беспомощно. Может напомнить книги по самопомощи и эзотерические брошюры об обретении самих себя. Но это эссе — не о том, как привести себя в порядок, и даже не о том, как я спасала свою душу. Оно о щедрости. О щедрости, которой необходимо научиться у наблюдения за полетом мотылька.
Когда я слышу дятла, я задираю голову и прислушиваюсь. Я не заказываю ему ритм, в котором он должен стучать, добывая свое пропитание. Дятел — не автомат с газировкой и не шансонье. Он будет стучать ровно столько, сколько ему это будет необходимо. А я могу послушать его совсем немного и пойти дальше. Могу задержаться и слушать до конца. Но я не могу запретить ему быть.
Чтение учит нас быть с другими, дарить им свое время и применять усилие для того, чтобы держать внимание на опыте и слове другого.
Не так давно у меня появилась собака. Кремовая чихуа-хуа, она, правда, очень добрая и послушная собака, но жизнь с ней совсем не похожа на видео в интернете. Ежедневно я слежу за ее взрослением, на днях у нее началась течка, носить собачий подгузник она отказывается. По ночам она бродит по мне в поисках удобного положения, а утром в порядке ритуала вылизывает мое лицо. Собака лижет мои веки с таким вниманием, что я не могу ей запретить это делать. Единственное, что мне остается, — заботиться о ней и постоянно помнить о том, что она собака.
Делить пространство с другим существом — это непростая задача. Необходимо постоянно одергивать себя и напоминать, что другое существо имеет собственное бытие и сознание. Иногда я в исступлении задаю вопрос в пустоту: ну почему все не могут прекратить делать то, что они делают, и начать делать то, что по-настоящему хорошо? Делать то, что я считаю важным и нужным, делать то, что будет полезно для всех?
То же с автобиографической прозой — она постоянно напоминает нам, что мы не являемся единственными носителями опыта. Напоминает нам, что наш опыт не универсален.
Миры автобиографической прозы — не убежища.
Написав это, я поразмышляла еще немного и пришла к выводу, что мир автобиографической прозы может стать убежищем для читателя. Если читатель проявит щедрость к бытию и способу мышления другого. Проявить щедрость — это не отщипнуть от себя, это значит создать новое пространство, в котором возможно не только «я», но и «мы».

Все, что я узнала о прошлом, было прочитано мной в мемуарной прозе. Эти тексты научили меня мыслить и писать. Эти тексты стали частью моего опыта.
Однажды я читала статью антропологов, посвященную музеям памяти. В ней исследовательницы Елена Рождественская и Ирина Тартаковская предложили термин «вторичная (эмпатическая) травма». Этим термином описывают опыт человека, который не переживал события N, но, столкнувшись с ним в пространстве музея, проживает его опосредованно — таким образом, посетитель становится носителем памяти о событии N.
Мне бы хотелось перенести это понятие в разговор о литературе. Об автобиографической прозе в первую очередь. Автобиографическая проза дает нам шанс вместить в себя истории и принципы мышления других, дополнить нашу память.
Для этого нам всего лишь нужно проявить щедрость.