
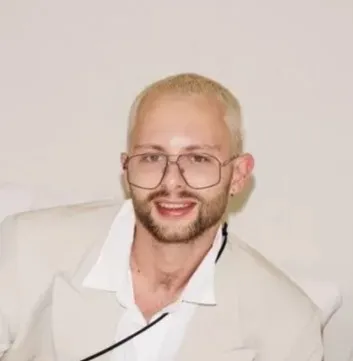

Качественное современное искусство продолжает уверенно занимать новые жилплощади — теперь оно обосновалось на стенах российских ресторанов и кафе. Репродукции и пейзажи в золотых рамах сменились работами ключевых художников на рынке. На вопрос, откуда пришел этот тренд и почему в России это стало так популярно именно сейчас, в двух словах не ответишь. Но попробуем разобраться — с помощью куратора Петра Иванова.
Начиная с конца XIX века во Франции было много популярных мест, связанных с искусством, но самым известным и блистательным примером до сих пор остается Maxim’s, построенный ко Всемирной выставке 1900 года в Париже. Нельзя сказать, что искусство было в него интегрировано, весь интерьер и был искусством — гезамткунстверком. То есть всеобъемлющим произведением искусства. Этот термин завещал нам Рихард Вагнер, а позже эту концепцию подхватили и адаптировали адепты ар-нуво. Такие как художники школы Нанси, оформившие интерьер знаменитого Maxim’s. Сделаю смелое заявление, сказав, что всемирная слава Maxim’s в каком-то смысле задала вектор для всех рестораторов, работающих с искусством сегодня.
Формула проста — сделать так, чтобы посетитель хотел возвращаться снова и снова. И атмосфера играет в этом не меньшую роль, чем сама еда.

С 1900-х и до наших дней случилось еще много арт-ресторанных проектов, включая Sketch Gallery в Лондоне с работами Дэвида Шригли, херстовский Pharmacy и его реинкарнацию Pharmacy 2, Osteria Francescana в городе Модене и многие другие. Но вернемся в российский контекст. Работу с искусством в ресторанном пространстве можно условно разделить на две категории: рестораны с постоянной коллекцией и гастропроекты с временными выставками.
Пионером второго подхода можно по праву назвать Максима Боксера с его выставками в баре «Перелетный кабак» С 2016–2019 годов там открылось около 50 временных проектов, включая выставки Игоря Шелковского, Ирины Кориной и даже две предаукционные выставки Литфонда. И на всех всегда можно было купить искусство.

В 2019 году эту эстафету подхватило бистро «Ладо», которое для каждой выставки коллаборируется с художниками, кураторами или галереями. В стенах «Ладо» свои выставки проводили Варя Чельцова, Лиза Одиноких, галереи Set Projects, Art & Brut. PR-директор «Ладо» Полина Васильева так говорит о потребительском опыте в стенах бистро: «Каждая экспозиция — это отдельная атмосфера и настроение, поэтому каждый раз впечатления получаются разными. Об этом, кстати, говорят сами гости, которые часто интересуются и покупают работы». И работы действительно покупают. Например, выставка Чельцовой имела большой успех, непроданными остались где-то 10% работ с выставки, что вообще-то и для галерейного проекта считается очень успешной кассой.
Еще один ресторанный проект, успешно работающий в коллаборации с российскими галеристами, — ресторан Soma на Петровском бульваре. В дореволюционной Москве на месте Soma проходили культовые мероприятия: от дней рождения Тургенева и Достоевского до свадьбы Чайковского и празднования Максимом Горьким премьеры спектакля «На дне». Узнав это, владельцы поняли, что искусство должно стать частью программы будущего ресторана. За последний год уже успели открыть три выставки в коллаборации с галереями Deep List, «Объединение» и Postrigay Gallery и останавливаться не собираются — до конца 2024 года планируют еще три выставки. Один из основателей ресторана Олег Цой (кстати, молодой человек Анны Павличенко, основателя «Ладо», — такая вот арт-гастро power couple), говоря о принципе работы с искусством, характеризует их подход так: «Нам важно, какие объекты искусства придутся ресторану „к лицу“, но также мы хотим участвовать в формировании ландшафта современной культуры в городе».

Таким образом рестораны цепляют внимание аудитории, дают своим посетителям лишний повод возвращаться вновь и вновь и, как следствие, тоже взращивают культуру коллекционирования в обществе. Продажи в общепите — это отдельная тема. Чтобы они случились, многие звезды должны сойтись, но в первую очередь посетитель должен понимать, что возможность купить то, что висит на стене, у него есть. Для всех только вступающих на этот путь несколько советов.
Второй принцип — работа с собственной коллекцией. Это менее энергозатратно для рестораторов, но требует финансовых вложений непосредственно для покупки работ. Часто бывает так, что картины, которые входят в экспозицию, — собственность рестораторов. Так делает, например, Александр Оганезов. В его Amy даже можно найти работу известной английской концептуалистки Трейси Эмин, завсегдатая аукционов современного искусства Phillips.
От него не отстают и коллеги из Lucky Group, чей отдел эстетики подбирает к каждому проекту искусство, исходя из многих факторов: «В отличие от белого куба выставочных пространств, у нас всегда есть контекст. Важна личность шефа, кухня, архитектура и дизайн интерьеров, поэтому мы, учитывая все эти факторы, подбираем искусство в разных медиумах».

На подход к работе с искусством ресторанной группы я обратил внимание при посещении Mamie на Никитской. Я довольно душный и всегда хочу узнать, что висит на стенах, ну и заодно подловить рестораторов — вдруг об этом искусстве никто ничего не может рассказать. Как правило, к постоянной коллекции этикетаж рестораторы не делают, поэтому единственный способ узнать — спросить. Официант направил ко мне молодого человека, ответственного за искусство в смене, и он провел для меня небольшой тур по работам Евгении Войнер, Георгия Хомича, Валерии Сальниковой и других.
В новой «Еве» в Хамовниках тоже есть прекрасное искусство, например литография Марка Шагала 1956 года и холст Регины Рзаевой, моей новой артист-краш из галереи «Объединение». Коллекционер Сергей Лимонов в этом вопросе пошел еще дальше и в своем ресторане Recolte в Петербурге развернулся по полной.
Он признается, что в какой-то момент искусства там не планировалось, но как же хорошо, что он передумал и разместил там часть своей обширной коллекции.
Сергей так рассказывает об эффекте работ в интерьере Recolte: «Раньше некоторые гости не могли сидеть в зале, где располагались „Хористки“ Петра Щвецова. Они просили пересадить их в другой зал, а единицы даже отказывались находиться на одном этаже с ними и уходили на первый этаж, в другой ресторан — Harvest. Сила искусства и ханжеская мораль давила на них! Но через полгода именно работа Швецова вызывала наибольший интерес и отклик. Люди специально бронировали по телефону столик в зале с „Хористками“. Эта история напоминает классический случай выбора, отказа и снова выбора Сергеем Щукиным „Танца“ Матисса 114 лет назад. Московский коллекционер боялся осуждения общества из-за смелой работы, но в конечном итоге победил свое малодушие и купил картину — один из главных шедевров XX века!»
В завершение я решил провести короткий блиц об искусстве в ресторанах среди героев, чье мнение лично мне интересно. А если вы еще не начали покупать искусство — хотя бы в ресторанах, то советую прочитать мою статью о расписании ярмарок и наметить в календаре посещение ближайшей.
{{quote1}}
{{quote2}}
{{quote3}}


1. Мой любимый ресторан во всех смыслах — это московская «Пробка». Айдан Салахова над баром вписана там столь органично, что ее замечают немногие. Люблю сидеть за круглым столом в Rico напротив медитативного Купера.
2. Я из тех, кто может свернуть в незнакомую гастрономическую дверь не из желания попробовать меню, а для того, чтобы проверить, какое искусство и коллекционный дизайн выбраны для нового проекта, кто был эдвайзером у команды архитекторов и ресторатора. Для меня это один из способов держать руку на пульсе спроса рынка. Не стоит недооценивать популяризаторский потенциал гастрономического сектора. Все ведь помнят sold out Дубинского на стенде Sample во время Cosmoscow? Убеждена, что предшествующее громкое открытие Gentle внесло не меньший вклад в успех любимых коллег, нежели их совместная выставка с галереей «Триумф» в ММОМА на Петровке.
3. У нас в LOBBY на арт-эдвайзинге сейчас два проектирующихся ресторана. К работе с общественными пространствами, в отличие от архитекторов, мы относимся не только как к декораторскому, но и как к кураторскому вызову. Мы подбираем работы художников, которые будут максимально созвучны концепции проекта, а в некоторых случаях курируем artist’s commissions. Сохраним интригу и будем надеяться, что вы сами скоро все увидите.

1. Почему-то сразу вспомнила Loro на Никитской и их роскошную картину Антона Тотибадзе с батоном и сыром Viola. И конечно же, Amy с работой Трейси Эмин.
2. Конечно, влияет. Это же будто коммуникация ресторатора с аудиторией. Тебя цепляет, вызывает интерес, ты узнаешь, почему именно эта работа и почему именно здесь. И вот с этим местом тебя связывает гораздо больше, чем просто вкусный обед.
3. На того, кого еще не знают ;)

1. В гастрономической части «Рихтера» искусство играет такую же важную роль, как и во всех других его пространствах. Очень нравится, как команда работает с темой, как легко (а это всегда значит, что за кадром проделана большая работа) соединяет смыслы и художников. Всегда передаю привет работе Жени Шишкина из серии «День цвета» и «Любовникам» Татьяны Бродач в лаундже.
2. Думаю, что важную роль, как и всегда, играют контексты. Когда между проектом и искусством в его стенах выстраивается эмоциональная связь, это сразу чувствует и каждый в этих стенах оказавшийся. В обратном случае, если все сделано без вовлеченности, это тоже заметно.
3. Ахмат Биканов.
