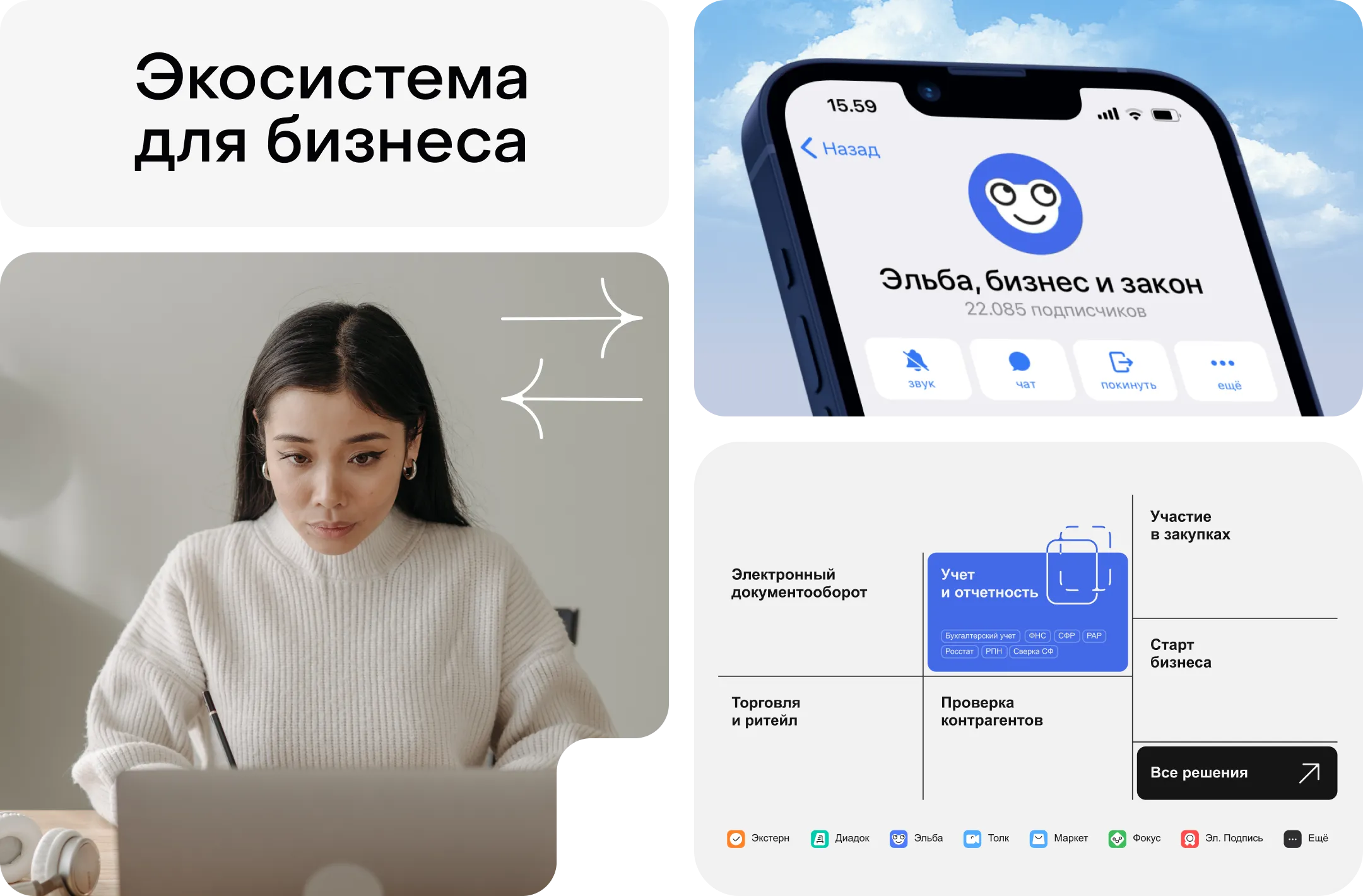В 1938 году химики Ган и Штрассман открыли в берлинском Институте химии кайзера Вильгельма деление атомного ядра. После расшифровки и сторонней проверки результата их открытие разошлось гулким эхом по всему научному миру. Одним из первых телефонный звонок получил 34-летний американский ученый.
«Поначалу Оппенгеймер не мог в это поверить. Он подбежал к доске, выполнил кое-какие расчеты и пришел к пониманию: с помощью расщепления ядра можно генерировать энергию».
В этом эффектном рассказе Кая Берда, самого известного биографа Дж. Роберта Оппенгеймера, есть по меньшей мере одна правда и одна неправда. Правда состоит в том, что Оппи, как его называли в мире физики, обладал необыкновенно быстрым умом; за ним одинаково не поспевали коллеги всюду, где он учился и работал, — на кафедрах Гарварда, Геттингена, Кембриджа, Беркли и Принстона. Неправда здесь — образ гениального математика, мелом нащупывающего на доске озарение. Оппенгеймер в математике был небрежен настолько, что физик-теоретик Абрахам Пайс позволил себе однажды написать: «Как быстро заметили читатели, выведенная ими формула оказалась ошибочной, как обычно». Студенты подставляли поправочные операторы там, где учитель предсказуемо ошибался, — и спорили о том, спутает ли он однажды вечную сигарету в одной руке с мелком в другой.
Еще хуже у Оппенгеймера обстояли дела с экспериментальной физикой. Этого тонкого, хрупкого человека трудно было представить себе оперирующим катушками Гельмгольца. «Я не способен спаять два медных провода», — признавался ученый. И хотя к сорока годам он выведет из идеи расщепления ядра одно из самых сложных и влиятельных устройств в истории человечества, боже упаси вас думать, что он сделает это собственными руками. Он сделает больше: возьмет ответственность на себя.
Оппенгеймер был рожден для великих свершений. Его отец, прусский еврей Джулиус Оппенгеймер (от него к Роберту перейдет Дж. в имени), перебрался в Штаты юношей и к появлению сына стал зажиточным предпринимателем, занятым в текстильной отрасли. Добившись процветания, Джулиус озаботился тем, чтобы стать «настоящим джентльменом»: он оттачивал английский у преподавателя из Оксфорда, стремился безупречно выглядеть и развивал художественный вкус. С последним ему помогала супруга, художница Элла Фридман, изучавшая живопись в Париже; ее еврейская семья перебралась в США прежде Оппенгеймеров. Гуляя по роскошной нью-йоркской квартире, маленький Роберт проходил мимо полотен Ван Гога, Ренуара, Пикассо и Вюйара.
При этом мир за пределами дома был ему недоступен из-за своей «грязи». Роберт попал в одну из лучших школ страны, Школу этической культуры при одноименном обществе, в котором состояли — и были в числе щедрых попечителей — Оппенгеймеры. Сегодня она входит в число школ Лиги плюща, а тогда ее рассматривали как кузницу творцов будущего Америки.
Высоконравственное воспитание лишило Роберта, по собственным словам, «шанса побыть хулиганом». Пересадка из тепличных условий далась непросто: вне школы мальчик плохо сходился со сверстниками. Определяющей травмой стал эпизод в летнем лагере для мальчиков, когда юного Роберта раздели донага, с ног до головы измазали зеленой краской и оставили в холодильной комнате.
По некоторым свидетельствам, в нежном возрасте Оппенгеймер был близок к самоубийству. Уже студентом Гарварда он сообщал в письме приятелю о своих делах: «Жалею, что не умер». Позднее, в Кембридже, его застали катающимся в отчаянии по полу. Эти депрессивные эпизоды в первую очередь связаны с тем, что Оппенгеймер — умевший читать на греческом и французском, писавший поэмы, знавший философию, нагруженный авансами от преподавателей — ощущал свою недостаточность в качестве физика. В Гарварде это направление было откровенно слабым, а в Кембридже нехватка лишь обострилась. Позже Роберт рассказывал, что «никогда не изучал элементарную физику», отчего некоторые базовые формулы вызывали у него панику; «так же и математику я изучил на очень примитивном даже для тех дней уровне».
Впрочем, к переезду в Кембридж деструктивные порывы были направлены не только на себя. Дважды Оппенгеймер оказывался в шаге от того, чтобы стать убийцей. В первый раз его жертвой мог оказаться кембриджский наставник, физик Патрик Блэкетт, будущий лауреат Нобелевской премии: Роберт оставил на его рабочем столе отравленное химикатами яблоко. Несомненно, поводом послужила ревность к блистательному и харизматичному преподавателю, который был всего-то на полных шесть лет старше Роберта. Инцидент удалось замять при участии родителей Оппенгеймера. Второй случай произошел на отдыхе в Париже, когда будущий физик накинул ремень на шею близкого друга, будущего теоретика драматургии Фрэнсиса Фергюсона. По мнению биографа Рэя Монка, «не сумев убить один образец совершенства, Оппенгеймер попытался убить другой».

В 1925 году начался новый этап развития физики: во время лечения от сенной лихорадки на острове Гельголанд немецкий физик-теоретик Вернер Гейзенберг сформулировал основные постулаты квантовой механики (позднее они принесут ему Нобелевскую премию). Его коллега Вольфганг Паули по этому поводу написал: «Механика Гейзенберга вновь вернула мне радость и надежду». Это же событие позволило Оппенгеймеру наконец выйти из кризисного состояния и осознать себя в качестве теоретика. Создание [[матричной механики|Матричная квантовая механика — первая концептуально автономная и логически непротиворечивая формулировка квантовой механики.]] открывало новое поле теоретических исследований, и Роберт ринулся заниматься этими вопросами. Молодой ученый посещал курс квантовой механики Поля Дирака, также будущего лауреата Нобелевской премии, а позднее перешел под крыло Макса Борна (Нобелевская по физике 1954 года), который развил квантовую механику дальше.
Так Роберт оказался в немецком Геттингене. Здесь он уже знал себе цену: обладая невероятно быстрым умом, он перебивал сокурсников на семинарах и даже смел поправлять Борна, который Оппенгеймера побаивался.
В это же время в городе всходят первые ростки фашизма: открывается отделение НСДАП, а один из студентов на всякий случай ведет реестр всех преподавателей-евреев — на будущее. Однако Роберта эти заоконные вещи мало волнуют. Он и себя едва ли сознает как еврея, куда скорее — как американца, искренне влюбленного в родную страну и скучающего по ней. До 1936 года Оппенгеймер живет приобретенными знаниями и научными спорами. Человек из чрезвычайно богатой семьи, он будто бы вовсе лишен политического сознания и мало интересуется человеческой ситуацией окружающих его людей. Характерно его высказывание: «Скажите мне, какое отношение имеет политика к истине, добру и красоте?»
Куда больше 23-летнего Оппи побеспокоит жалобная записка, переданная Максу Борну. В ней профессору поставлен ультиматум: или Оппенгеймер прекращает встревать на занятиях, или студенты объявляют бойкот. Как окажется, автором выступила Мария Гёпперт, в будущем лауреатка Нобелевской премии за создание оболочечной модели ядра.
Получив [[PhD|Степень доктора наук, присуждаемая в большинстве стран Европы и в США.]], Роберт вернется в США, где правительство начнет сознавать пропасть, пролегающую между американским и европейским уровнем квантовой физики. Оппенгеймер с энтузиазмом вливается в проект создания американской школы физики в Беркли, получив стипендию Национального исследовательского совета. Теперь он сам преподаватель, от которого ждут новых слов не только в лекциях, но и в академических журналах.
В его преподавательской деятельности кристаллизуются два будто бы противоречивых качества. Вероятно, именно они определят его участие в создании атомной бомбы. С одной стороны, Оппенгеймер обезоруживающе очарователен. Его друг, историк античной философии Гарольд Чернис, скажет: «Одна только его внешность, его голос и манеры заставляли в него влюбляться — мужчин, женщин. Почти всех». Оппи оказывается необыкновенно талантлив в модерации научных дискуссий: мгновенно понимая доводы говорящего, обладая изумительной памятью и широким научным аппаратом, Роберт безошибочно направляет обсуждение, находит нужный вопрос для спора, подытоживает, острит, примиряет и властвует.
С другой стороны, его речь нередко оказывается непроницаемой даже для передовых коллег. «По всем отзывам, я был очень сложным лектором», — сознавался Оппенгеймер. Выдающийся физик-математик и физик-химик Ричард Толмен, коллега Эйнштейна, как-то присутствовал на двухчасовом выступлении Оппенгеймера, в конце которого обратился к лектору: «Роберт, я ни черта не понял из того, что ты сказал сегодня вечером, кроме...» — и написал на доске уравнение. «Это все, что я понял», — подытожил ученый. На это Оппенгеймер ответил, что Толмен понял уравнение неверно. До сих пор можно встретить различные оценки этой сложности: кто-то видел за ней недостаточную стройность мысли и даже пустоту. В особенности это характерно для его поздних выступлений, все менее богатых сущностно, но по-прежнему изящных. Вольфганг Паули однажды назовет студентов Оппи «цуникерами», то есть теми, кто кивает.
К этому времени формируется и способ существования Оппенгеймера-ученого. Он не одиночка, как Поль Дирак, — многие статьи 1930-х выходят в соавторстве с его учениками, и нередко именно студент играет решающую роль в выборе и исследовании темы. Он не остается в поле квантовой механики, как Гейзенберг, и обращается, например, к вопросам астрономии: его статья «О безграничном гравитационном сжатии» (написана вместе с Хартландом Снайдером) предсказывает существование «черных дыр». Звучит впечатляюще, однако в конечном счете Оппенгеймер так и не совершит собственного прорыва. Вместе с Джорджем Волковым он напишет в 1939-м статью о нейтронных звездах и гравитационном коллапсе, в их честь назовут верхний предел массы невращающейся нейтронной звезды, за которым она превращается в черную дыру. Возможно, это самая известная «мирная» работа Оппенгеймера. Он так никогда и не получит Нобелевскую премию, а его вклад в науку после [[Манхэттенского проекта|«Проект Манхэттен» — кодовое название программы США по разработке ядерного оружия.]] будет трудно оценить: над этим наследием навсегда нависнет тонкая фигура человека в шляпе с круглой плоской тульей и сигаретой во рту; человека, до последних дней не посчитавшего бомбардировку Хиросимы ошибкой.

Нет ничего странного в том, что политическое сознание пробуждается в Оппенгеймере в Калифорнии, а не в Европе, где он сам был свидетелем взращиваемого нацизма. Роберт с юности прослыл патриотом, и потому видеть несовершенство общества на родине было для него куда больнее любых европейских потрясений.
Развитию его взглядов во многом способствовала Великая депрессия 1930-х годов. Однажды он узнал, что один из его учеников вынужден был питаться кошачьей едой из банок. Оппенгеймер также видел, как его студенты не могли найти достойную работу. В 1936 году он прочитал «Капитал» и тогда же обзавелся знакомствами с рядом членов коммунистической партии. Ученый жертвовал деньги испанским коммунистам во время гражданской войны в Испании — до 7% своего годового дохода. До сих пор нет убедительных доказательств того, что Оппенгеймер мог сам быть членом компартии, его принято считать «попутчиком». Зато известно, что партийный билет был у Фрэнка Оппенгеймера, младшего брата Роберта. Все это позднее сыграет зловещую угрюмую роль в жизни Оппи.
В 1939 году на [[симпозиум|Научная конференция, совещание по определенному вопросу.]] по космическим лучам в Чикаго прибудет Вернер Гейзенберг, ведущий физик нацистской Германии. Здесь он схлестнется с Оппенгеймером, который будет яростно противостоять доводам немца. Рэй Монк пишет:
Немногим позже начнется следующее их сражение: это будет гонка по созданию атомной бомбы.
К 1939 году у Оппенгеймера действительно сложится американская школа физики. В это время деление ядра уже открыто. Есть свидетельство, будто на рабочей доске у Оппенгеймера через неделю после берлинских известий будет красоваться карикатурный рисунок бомбы. Нет никаких сомнений, что именно такое следствие ядерного расщепления интересовало ученого больше всего. Этот рисунок — единственный «вклад» Оппенгеймера в вопрос деления ядра в конце 1930-х; академическая его работа по-прежнему сосредоточена вокруг вопросов гравитационного коллапса.

О проекте по созданию атомной бомбы Оппенгеймер узнал случайно. Член «комитета M.A.U.D.», британского проекта по разработке атомной бомбы, Марк Олифант оказался несдержан в разговоре. Есть вероятность, что этот «воробей» вылетел намеренно: Оппи необходимо было вовлечь в проект. Он скоро и сам этого захотел: для Оппенгеймера крайне важно было пребывать на передовой исследований, а когда один за другим физики стали уклончиво отвечать на вопрос о своих делах, в существовании большого государственного проекта по созданию бомбы нельзя было сомневаться.
В эту же пору Оппенгеймер оказывается под наблюдением ФБР. Сознавая, что близость к компартии не сочетается с государственной службой, тем более с работой на секретном проекте, Оппи постарается оборвать прежние связи. Однако на столе у Дж. Эдгара Гувера, директора ФБР, к тому моменту уже лежит досье на ученого: общается с коммунистами, подписан на газету компартии, состоял в ее подставных организациях. Начинается игра в кошки-мышки, которая будет длиться годами.
К 1942 году американская комиссия экспертов приходит к выводу, что создание атомной бомбы возможно, а срок реализации этого проекта составит три с половиной года.
В марте Оппенгеймер решает покинуть Беркли и сосредоточиться на исследованиях для военного дела. Он пока еще не является официальным участником проекта и не имеет допуска к секретным сведениям. Это изменится, когда руководить Манхэттенским проектом назначат генерала Лесли Гровса — верзилу, который по-военному коротко рявкал. У них с Оппенгеймером было кое-что общее: оба умели принимать решения молниеносно. Именно так, без лишней минуты раздумий, Гровс выбрал его директором научной части проекта. По-видимому, Оппенгеймер и здесь сумел извлечь выгоду из собственной харизмы. Ведь почти по всем мыслимым причинам он не подходил на роль руководителя: он прежде ничем не управлял, его личное досье вызывало немало вопросов, а кроме того, в отличие от многих участников проекта, у Оппенгеймера не было ни Нобелевки, ни тех достижений, что можно суммировать в паре предложений.
Чутье не подвело генерала. Оппенгеймер расцвел в новой должности. Он заманивал в проект ведущие умы, поддерживал в условиях засекреченности дух открытой научной дискуссии, держал в уме все вопросы, устраивал в выходные дни вечеринки, где готовил джин с мартини, — словом, этот человек был на своем месте.
Этим местом была пустыня Нью-Мексико, в которую Роберт влюбился еще подростком и которую часто посещал на каникулах и в отпуске. Известно собственное высказывание Оппи о том, что у него всегда было две любви: физика и пустыня Нью-Мексико, причем физика только на втором месте. Вместе с Гровсом он выбирает крохотный поселок Лос-Аламос, которому предстоит преобразиться до неузнаваемости.
Манхэттенский проект предполагал невообразимые производственные мощности. Строго говоря, в создании бомбы было меньше теоретической трудности (деление ядра уже открыли) и куда больше — инженерной и производственной работы. Сюда стекутся десятки тысяч человек (на пике — 150 тыс. рабочих), и ни один не будет знать, что именно делает. Под руководством Гровса и Оппенгеймера выстроится система [[on a need-to-know basis|Сотрудники знают только то, что им нужно знать, чтобы делать свою работу — не более.]]. Так, рядовой сотрудник мог стоять у вентиля с циферблатом. Должностная инструкция заключалась в том, что, если стрелка на последнем слишком отклоняется от центра, вентиль необходимо повернуть.
Оппенгеймер вел себя как настоящий лидер не только в кабинете с другими учеными. После травмы Великой депрессии он вникал в вопросы заработной платы, организации административного управления, местной медицины, образования для детей сотрудников и так далее. Эллен Брэдбери Рид, дочь ученого, занятого в Манхэттенском проекте, школьницей жила в Лос-Аламосе и вспоминала, как там постоянно что-то взрывали, причем по расписанию: в десять утра, в полдень и в 15 часов. Эти взрывы заменяли здесь колокольный перезвон — так звучали позывные новой религии атомного века.
Гровс не сомневался в благонадежности Оппенгеймера, а тот и сам иногда подыгрывал военным в стремлении все засекретить. Как-то он отправил в бар физика Роберта Сербера, чтобы организовать контролируемый вброс дезинформации. Изобразив некоторую степень опьянения, Сербер должен был заговорить с местными завсегдатаями и рассказать: «Знаешь, что мы делаем в Лос-Аламосе? Мы строим электрическую ракету!» Оказалось, что в баре всем плевать на признания невзрачного человека в очках, и ни в каких отчетах спецслужб «электрические ракеты» так и не появились.

Уникальность Манхэттенского проекта среди прочего состоит в том, что здесь разрабатывались сразу два типа атомной бомбы. Одна из них, пушечного типа, подразумевала, что надо с огромной силой соединить (выстрелить из «пушки») два куска урана в докритическом состоянии, чтобы образовать сверхкритический кусок, вызывающий деление ядер. Если произвести это столкновение с недостаточной силой, вместо взрыва случится буквальный «пшик». Так будет устроен «Малыш» с зарядом из урана-235, сброшенный на Хиросиму.
Другая конструкция построена на принципе имплозии, который первым сформулировал Ричард Толмен. В центр заряда помещалось плутониевое ядро, окруженное взрывчаткой, которая срабатывала направленной ударной волной. Плутоний — слишком нестабильный материал для пушечной схемы подрыва, зато дающий куда более сильную реакцию при расщеплении.
Был и третий путь: физик-теоретик Эдвард Теллер практически сразу предложил идею водородной бомбы, принципиально в разы более мощной, нежели атомная, — настолько, что Оппенгеймер поручил коллеге Хансу Бете (Нобелевская премия 1967-го) установить, не сможет ли такой взрыв сжечь всю атмосферу Земли разом. Тот сделал вид, будто производит расчеты, хотя с самого начала не верил в подобную вероятность: «Оппи был гораздо более экзальтированным человеком, чем я».
Всю дорогу, что Оппенгеймер занимался созданием бомбы, ему приходилось охранять не столько ее, сколько свои секреты. На базе ему противостоял подполковник контрразведки Борис Паш, сын эмигрантов из России, всюду видевший советских агентов. За пределами базы за Оппи следовали агенты ФБР. Ирония в том, что Гувер ничего не знал о проекте атомной бомбы, а сновавшие окрест Лос-Аламоса сотрудники бюро то и дело получали щелчок по носу от военного ведомства.
Срок в три с половиной года оказался верным. 16 июля 1945 года в полшестого утра в пустыне Нью-Мексико с успехом пройдет испытание под кодовым названием «Тринити». Имплозивная бомба разорвалась, породив никогда доселе невиданную картину: атомный гриб разросся над пустыней Хорнада-дель-Муэрто (в переводе — «путь мертвеца»). Что было на душе у Оппенгеймера и его коллег? В первые мгновения — облегчение: «Сработало».
Затем Оппенгеймер осознал: «Мир не будет прежним». В знаменитом телевыступлении 1965 года этот рано постаревший седой человек, взятый оператором трансляции так крупно, что зрителям становилось не по себе, скажет:
«Кто-то смеялся, кто-то плакал. Большинство молчали. Я вспомнил строчку из индуистского священного писания, Бхагавадгиты: Вишну пытается убедить принца, что тот должен исполнить свой долг, и, чтобы произвести на него впечатление, предстает многоруким и говорит: «Теперь я смерть, разрушитель миров».
К июлю 1945 года Германия уже побеждена; примерно с середины 1944 года американцы получили сведения, что немецкий проект создания атомной бомбы под управлением Гейзенберга не состоялся. Однако Вторая мировая еще продолжалась, и американским войскам предстояло высадиться в Японии. Военные аналитики предсказывали большое число жертв среди своих солдат. Уже в мае, за два месяца до подрыва «Гаджета» на испытании «Тринити», Оппенгеймер участвует в выборе цели для первого военного ядерного удара в истории. Хиросима выглядит наиболее эффективной. «Окружающие ее холмы, вероятно, произведут фокусирующий эффект, что значительно увеличит урон от взрыва». Он высказывает предположение: взрыв унесет жизни 20 тыс. человек, ведь многие успеют попрятаться в бомбоубежище. Реальные потери окажутся больше в несколько раз.
Позднее Оппенгеймер назовет создание атомной бомбы «грехопадением» физики.

Однако под этими словами он не имел в виду трагедию Хиросимы и Нагасаки, а говорил о том, что он и коллеги бросили вызов природе и познали грех гордыни.
Удары по Хиросиме и Нагасаки рассекречивают деятельность ученых в Лос-Аламосе, заканчивают Вторую мировую и спасают жизни американских солдат. Оппенгеймер становится одной из главных фигур в США. До конца 1940-х годов он попадает на обложки Time и LIFE. А в 1947 году возглавит Институт перспективных исследований в Принстоне, куда привлечет не только физиков, но и самых разных академиков, включая искусствоведов, а в «гости» к ним приедет поэт Т. С. Элиот. (Оппи останется недоволен: «Я пригласил сюда Элиота в надежде, что он создаст еще один шедевр, а все, что он здесь создал, — это «Коктейльная вечеринка», худшее из всего, что он когда-либо написал».) Ничто из этого не поможет его репутации в высших кругах.
За ударом по Хиросиме (более 100 тыс. жертв) 6 августа следует бомбардировка Нагасаки 9 августа (до 80 тыс. погибших). Именно этот второй удар меняет для Оппенгеймера все. В использовании бомбы против населения он видел ультиматум, способный не просто окончить мировую войну, но отменить войны как таковые. Однако за одной демонстрацией последовала следующая, а затем — принципиальный отказ США от открытости в области атомной энергетики и вооружения. Оппенгеймер прекрасно понимал, что Манхэттенский проект — это инженерное чудо, тогда как сами идеи атомной бомбы не могут оставаться ноу-хау США. Здесь он разошелся с новым президентом страны Трумэном, политической верхушкой и даже генералом Гровсом, который утверждал, что советские ученые неспособны создать бомбу: «Ведь эти люди даже джип не могут сделать».
Оппенгеймер отказывается участвовать в операции «Перекресток», а Лос-Аламос предлагает «вернуть индейцам». Он проваливает встречу с Трумэном, на которой президент встречает не прежнего блестящего оратора, а что-то бормочущего человека, который говорит, что у него «руки в крови». Трумэн парирует: «Это у меня руки в крови», обзовет Оппенгеймера «плаксой» и попросит впредь держать этого ученого подальше.
Он все еще сверхпопулярная персона. В 1947 году на киноэкранах страны зрители видят человека в костюме и с трубкой.
«Здравствуйте, кем бы вы ни были. Меня зовут Дж. Роберт Оппенгеймер. Я американский ученый. На дворе — 1946 год от рождества Христова».
Это актер Хьюм Кронин, походящий на Оппи не более, чем на Альберта Эйнштейна. Фильм называется «Начало конца» (по предложению самого президента Трумэна) и рассказывает «правильную» историю создания бомбы. Маркетинговый ход состоял в том, что кино было «рассчитано» на зрителя далекого будущего, который найдет специально запечатанную капсулу с пленочной копией и узнает, «как все было».
«Я обращаюсь к вам, людям XXV века, на английском, сегодня — и, надеюсь, в ваши времена — одном из ведущих языков мира», — продолжал эрзац-Оппенгеймер. Фильм забыли на следующий год.
Все большее противостояние Оппенгеймера политическому курсу США в области атомного вооружения приводит к тому, что ученый наживает влиятельных врагов — а те вытряхивают на свет его прежние секреты. Общество тем временем охватывает новая «красная паника». Начинается эпоха маккартизма. Оппенгеймеру припоминают участие в коммунистических мероприятиях, общение с неблагонадежными людьми, а также прежнее ситуативное вранье по этим поводам при допросах.
Все это время он остается подлинным патриотом — таким, о котором один из студентов однажды сказал: «Это уж слишком. По словам Оппенгеймера, даже цветы в Америке пахнут лучше». Горько звучат его слова, сказанные в 1930-е по поводу невозможности фашизма в США: «Здесь [в Америке] отсутствует насилие, потому что в саму природу демократии, такой как в Америке, встроен предохранительный клапан. Тоталитаризм здесь гораздо менее вероятен, чем в Европе».
Преследования за взгляды, тотальные слежка и прослушка, черные списки становятся новой американской реальностью. Кульминацией этого сюжета станут четырехнедельные слушания по делу о допуске Оппенгеймера к секретным данным. Его личный враг Льюис Штраус, председатель Комиссии по атомной энергии США, превращает процесс в уничтожение Оппенгеймера как публичной персоны. Его уличают во лжи, датированной временем работы над Манхэттенским проектом. Оппи было что скрывать — в частности, ради спасения брата Фрэнка, члена компартии США. Американская публика узнает, как он сдал своего давнего друга, преподавателя литературы Хаакона Шевалье, лишь бы отвести подозрения от тех, кто был дороже. В течение месяца под тщательным рассмотрением оказывается вся жизнь Оппенгеймера, дело завершается не в пользу ученого, а в качестве заключительного штриха Штраусс добивается публикации стенограмм заседания.
Эйнштейн комментирует слушания с присущим ему юмором:
«Беда Оппенгеймера в том, что он любит женщину, которая его не любит, — правительство Соединенных Штатов».
Оппенгеймер выпадает из значимых общественных процессов. У него остается наука, однако новая физика — удел молодых, а передряги середины века прежде времени превращают Роберта в старика. Он разъезжает по стране — да что там, по всему миру! — с лекциями, в которых уже больше риторического изящества и философских рассуждений, нежели соприкосновения с актуальным научным процессом. У него остается Принстон, но и там ощущают, что руководитель утратил хватку. Историк науки Роберт Криз приводит жестокий анекдот: как-то в 1950-е на устном экзамене по физике в университете Висконсина студента спросили, какой вклад внес в эту науку Оппенгеймер. «Не знаю», — сказал студент и услышал, что это правильный ответ.

Тучи рассеиваются во второй половине 1950-х. Сенатор Маккарти умирает, но его «дело» — параноидальный поиск «пятой колонны» в американском обществе — завершается прежде того. Льюис Штраус лишается места председателя Комиссии по атомной энергии. Дело Оппенгеймера пересматривают и находят признаки «персонального злоупотребления судебной системой с целью мести». В 1959 году Штраус едва не получает должность министра торговли, однако судьба усмехается над ним так, что образуется рифма с делом Оппи. Теперь Штрауса на протяжении четырех недель рассматривают со всех сторон. Его обвиняют в недостойном поведении — комиссия, сенаторы, ученые, газетчики. Штраус называет происходящее кошмаром. Оппенгеймеру все равно, он не проявляет никакого интереса ни к этому делу, ни к возможности снова войти в состав комиссии. В должности министра Штраусу отказывают.
В жизни Дж. Роберта Оппенгеймера наступает золотая осень. Он востребован в качестве лектора, способного очаровывать аудитории на две тысячи слушателей. Он продолжает — уже в качестве гражданина США — предупреждать общество об опасностях гонки вооружений и выступает за ликвидацию ядерного арсенала. А еще он решает оставить должность в Принстоне с лета 1966 года, о чем сообщает весной 1965-го. Он сдержит обещания, но уже в свете новых обстоятельств: зимой 1966 года у Роберта обнаружен рак горла, роковое последствие пристрастия к курению. Он все меньше способен говорить, обходится советами («бросайте курить»). Через год после диагноза, в феврале 1967-го, Оппенгеймер слаб настолько, что после собрания сотрудников в Принстоне на несколько дней ложится в постель — и больше не поднимается. Вечером 18 февраля Оппенгеймер скончался во сне.
Оппенгеймер был гением атомного века — века настолько стремительного, что поспевать за ним мог лишь молодой и витальный ум. Трагическая история послевоенной охоты на «коммунистических ведьм» вытрясла из него немало жизненной силы, обеспечив преждевременное старение и отход с научной передовой. Французский математик Андре Вейль сказал:

В отличие от вклада многих физиков-теоретиков, главное достижение Оппенгеймера можно было потрогать руками — разумеется, если у вас был надлежащий уровень допуска. Эхо этого достижения разнеслось по всей планете. Его вспышка приходит к нам в кошмарах; его угроза звучит в речах главы крупнейшего государства Европы. Можно лишь надеяться на благоразумие этого мира, когда мы говорим об атомной бомбе. Оппенгеймер этим благоразумием обладал, как мало кто другой.