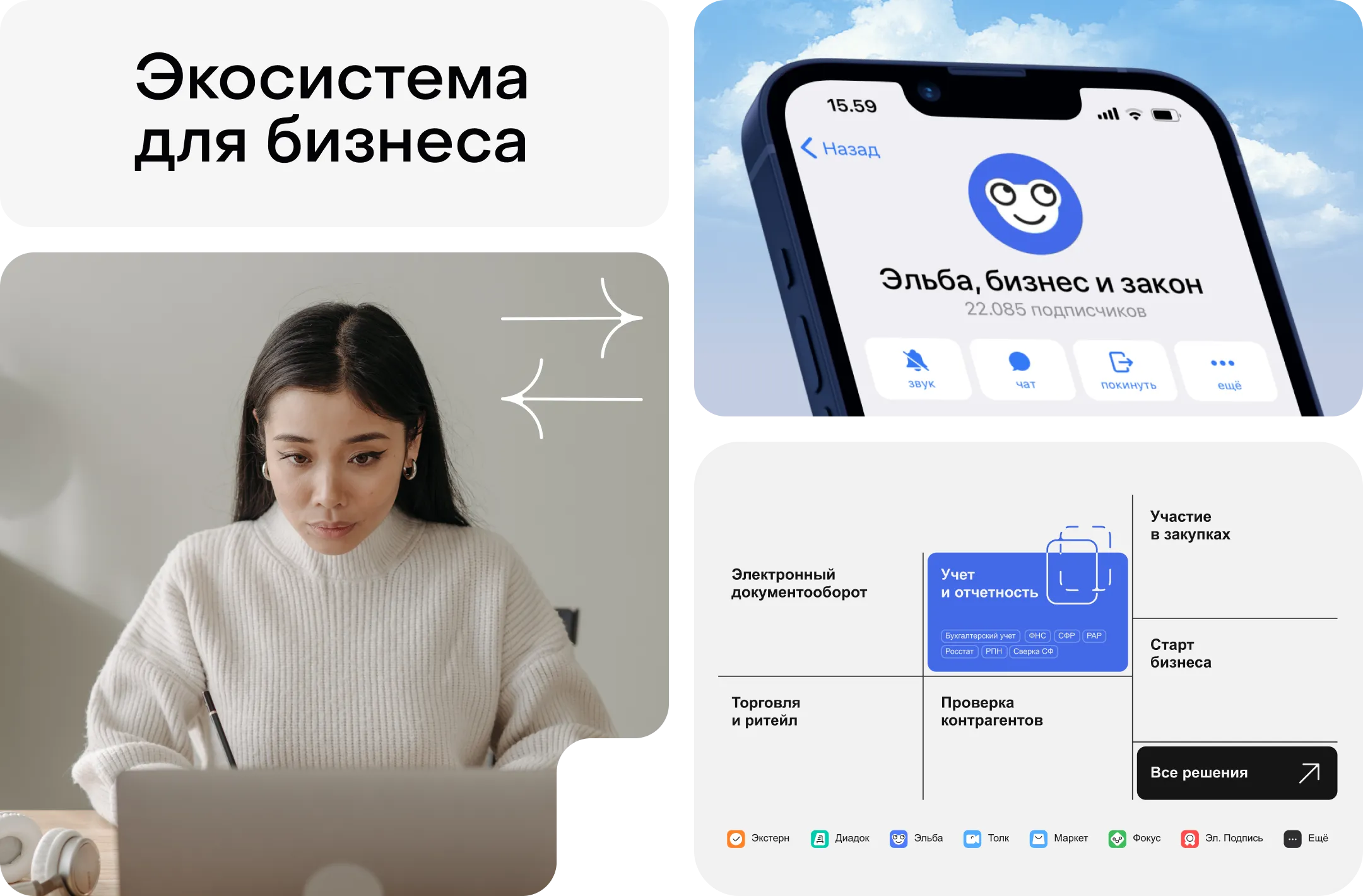Завтра в Музее русского импрессионизма открывается выставка «Группа „13“. В переулках эпохи», посвященная советской группе художников 1930-х годов, которая не укладывалась в привычное противостояние «официальное искусство — авангард» и потому до недавнего времени оставалась малоизвестной. По просьбе SETTERS Media соосновательница галереи Deep List Дарья Ярцева поговорила с куратором выставки Надеждой Плунгян, которая уже много лет занимается «возвращением имен» в историю советского искусства, об архивной работе и о том, как перестать воспринимать историю искусства как что-то монолитное.

Дарья Ярцева: Выставка «Группа „13“. В переулках эпохи» видится мне естественным продолжением вашего большого кураторского проекта, посвященного возвращению неизвестного советского модернизма. Почему для вас важна работа с архивами?
Надежда Плунгян: Действительно, как у ученого или куратора у меня есть некая единая задача, которую я решаю. Задача в том, чтобы переопределить место советского искусства в интернациональном модернизме, в стилевых процессах XX столетия, и сделать это системно. Выставка «13» – один из этапов этой работы, и я рада, что группойнаши цели с Музеем русского импрессионизма отчасти совпали, так как музей заинтересован в открытии малоизвестных имен художественной сцены конца XIX — начала XX века. Как всякая выставка – это апробация идеи, спуск корабля на воду, когда смотришь, как реагирует публика.
Группой «13» я занимаюсь довольно давно, в 2009 году я защитила о них диссертацию, и в некотором смысле отношение к этим художникам в искусствознании для меня – индикатор происходящего в науке. Интересно, что других научных работ именно о группе за эти почти 20 лет не появилось: было несколько небольших выставок из личных коллекций, но принципиально нового понимания этой группы я в них не увидела. На выставке в Музее русского импрессионизма я предлагаю рассмотреть «13» как некий ключ к советскому искусству, причем не только тридцатых, но и шестидесятых, и даже семидесятых годов.
ДЯ: Ваша практика мне видится как заполнение лакун в истории искусства, подсвечивание серых зон, вытесненных из нормативных учебников. Сейчас это стало важным для многих художников, исследователей и кураторов, сосредоточенных на фиксации момента в истории, для которых важно, чтобы он не растворился, не был забыт или переписан, утрачен со временем. Почему именно группа «13» стала для вас ключом к советскому искусству и встречали ли вы сопротивление внутри профессиональной среды?
НП: Когда я пришла в Институт с этой темой, с группой «13» (примерно в 2006 году), Институт был профессионально очень ярким пространством. Мою тему заметили и поддержали двое крупных ученых: Глеб Геннадьевич Поспелов (он живо увлечен был графикой рубежа веков в ее переходе к советскому рисунку) и Григорий Юрьевич Стернин, вот его я во многом считаю своим учителем. Мы часто созванивались. Он действительно вникал в мою работу, хотя руководителем не был. Советов не давал – его стиль был закинуть один-два цепких комментария, но таких, что над ними думаешь месяцами. И да, ему хотелось всегда быть в курсе всего нового... Для меня у Стернина главное и самое близкое – его острый взгляд на историю искусства, как на неотъемлемую часть истории общественных процессов. Взгляд отчасти марксистский, но с редким всеохватным пониманием проблем стиля и формы, взгляд более динамичный, чем у Евсея Ротенберга и Михаила Гаспарова. Для меня по итоговому масштабу работа Стернина превышает любого Фуко. Безусловно, скоро его значение будет лучше понятно для следующих поколений, его труды будут переизданы, знать их необходимо. Я рада, что попала в Институт, когда эти люди были живы. Мне повезло также соприкоснуться с Ефимом Исааковичем Водоносом из Саратовского музея и Аллой Александровной Русаковой из ГРМ, они были моими оппонентами.
Если говорить о лакунах, сейчас нашему искусствознанию не хватает синтетичности, не хватает понимания связи искусства с другими общественными явлениями. Это иллюзия, что искусство живет вне политики. В своих проектах я хотела бы смотреть на искусство, как на вестник исторических изменений. То, как художники «13» улавливали колебания воздуха своего времени один из примеров.
ДЯ: Как вы видите задачи куратора? Это работа с позиции архивиста, исследователя, психоаналитика или гибридное положение?
НП: Надо сказать, я не вижу себя как именно куратора , я больше теоретик. Кураторство выставок для меня скорее временный этап, одна из апробирующих задач. Другое дело – Александра Селиванова, мы много работали вместе, думаю, что она прирожденный куратор, способный мыслить целыми циклами выставочных проектов. Тонкий, мыслящий куратор, который не боялся работать с высочайшей музейной классикой — Сергей Фофанов. Бесспорно великий куратор – Сергей Хачатуров, который средствами музея бросает вызов современному искусству, создает в стенах музея феерию, театр. Примеров много.
Возможно, вы правы, что куратор еще и психотерапевт. Нужно выяснить, какое у зрителя базовое представление о материале, немного его изменить, сдвинуть, но и отчасти остаться на стороне зрителя. Но мой принцип в том, чтобы стоять именно и в первую очередь на стороне художника. Художник делает очень уязвимый и новый вклад в историю искусств, в политику, общество. Куратору нужно полностью понять и раскрыть это послание на разных уровнях, чтобы вести зрителя за собой, открыть зрителю нечто незнакомое.
{{slider-gallery}}



ДЯ: Лично мне всегда было интереснее наблюдать за кураторами, чья практика схожа с вашей. Это позиция человека автономного, обладающего критическим мышлением и дающего свой уникальный взгляд на практику художника.
Но если возвращаться к грядущей выставке и группе «13», можно ли сказать, что они исследовали новые формальные художественные приемы своего времени? И тут на самом деле много вопросов… Интересно, что художники группы выбрали документировать новую городскую жизнь преимущественно с помощью графики. У них не было никакой идеологической повестки, но в то же время возникла ситуация, когда они официально не смогли продолжить работу и выставочную практику. Однако, как я понимаю, художники общались между собой и продолжали работу в стол.
НП: Да, так и есть. Меня в целом интересует предложить новый подход к советским группам. Период их жизни довольно краток. Группа «13» появилась на его излете, в 1929 году. В 1931-м они провели свою последнюю выставку. При этом они прожили несколько десятков лет как сообщество, и выставку я строила, как размышление об истории сообщества.
Что касается«отсутствия идеологической повестки», я бы поспорила с этим определением. Я думаю, оно пришло из 1970-80-х, когда закреплялось всем известное разделение советского наследия на «чистое искусство», «официальное искусство и «авангард». Думаю, пора отойти от такой механической политизации, нужно взглянуть на историю искусства XX века, как на историю формы.
Форма не аполитична. Если углубленно заниматься ей, вы всегда войдете в конфликт с обществом, причем в политический конфликт. Ведь речь о новой форме мышления. Пластическое мышление — это именно вид мышления, не второстепенный по отношению к другим.
ДЯ: Согласна, пластическое мышление — стейтмент для художника.
НП: Постсоветские искусствоведы, культурологи любили писать о том, что «забытые» художники 1930-х «всего лишь занимались формой, не понимая, что даже это может быть опасно». Но зачем принижать работу с формой? Это очень рискованное дело, здесь нет легкого пути.
ДЯ: Сейчас вопрос формы не стоит столь остро, но если мы рассматриваем искусство XX века, то как раз -таки основная работа художников заключается в поисках новой формы, ее трансформации и преодоления. В том числе создавалась норма идеологической формы, с которой резонировала практика группы «13», — видимо, поэтому она стала невозможна.
НП: Вопрос формы всегда стоит остро. Какую форму приобретет Россия и российская культура в XXI веке? Каким будет отношение к советскому искусству? Это вопрос не только идеологии. Заявки, которые будут делать сейчас музеи и исследователи, в этом контексте крайне важны, они определяют очень многое.
Если вернуться к «13-ти», камнем преткновения с властями в их случае стала тема документализма в графике и живописи. Этот упор на документальный рисунок неожиданно ставит их в один ряд, например, с таким явлением, как ранняя АХРР (Ассоциация художников революционной России), с которой я надеюсь немного в будущем поработать. Все получили, что хотели. АХРРы превратились в ярких политических плакатистов. А «13» мы теперь показываем вровень с Жерико и старыми голландцами.
ДЯ: Получается, если мы говорим про документалистику, то практику группы «13» можно сравнить с графическим дневником городской жизни конца 1920-х годов. Наверное, они выбрали этот медиум из-за возможности сделать быстрый рисунок. Повлияло ли это решение на то, какое место они заняли в истории искусств, где в каком-то смысле первенство и большее внимание отдано живописи?
НП: Думаю, повлияло то, что в целом советские группы изучали мало. Художники группы «13» познакомились около 1924 года, всего 100 лет назад. Для большой истории искусств – недавно, учитывая, что мы еще не вполне выбрались из шлейфа постсоветского и советского искусствознания.
Да, это группа графиков, причем важно, что основатели «13», Владимир Милашевский и Николай Кузьмин, вышли из петербургско-петроградской графической школы. Вслед за Бенуа, рисунок был для них входом в большую и прочную традицию. Им хотелось, с одной стороны, свободно перемещаться внутри столетий истории искусства, а с другой — легко и уверенно укорениться в современности —да еще всегда быть на ее гребне – ведь «13» брали любые повседневные сюжеты!


ДЯ: Сейчас, когда государственная цензура выходит на новый виток своей силы, ощущаете ли вы это в своей работе? Как вы видите функционирование музейных выставок в ближайшем времени?
НП: Я не верю в хорошие и плохие времена. Думаю, идеальных условий для работы никогда не будет, и ждать их нет смысла. Раньше мы жили в системе четких ячеек постмодернистской науки – это была могучая цензура, мышь не проскочит. Главным искусством был русский авангард, специалисты в этой сфере были известны и навсегда определены; все остальное – 1930-е, 40-е, 50-е – считалось второстепенным, темами третьего ряда, в лучшем случае для небольших галерей. Это время длилось десятилетиями. Сейчас оно уходит. Появляются новые типы музейных проектов, новые кураторские стратегии, а значит – открывается поле многостороннего диалога университет – музей – издательство и т.д. Да, 2000-2010-е были для нашего поколения исследователей несколько душными. Ну и что? Исследователь никому и никогда не удобен, если он разрабатывает новое. За 15-20 лет мы написали в стол десятки проектов. Рано или поздно они будут реализованы, мы получим многогранный результат.
У музеев в России, конечно, огромное будущее, они обладают абсолютно уникальными архивами, которые очень во многом не исследованы. Нужна большая ревизия советского искусства, его описание и анализ, нужно интенсивно заниматься подготовкой специалистов, защищать диссертации, по нескольким направлениям сразу, открывать и утверждать новые имена и создавать прочное плато, которое позволит нам уверенно пользоваться XX веком как своим наследием.
ДЯ: Чьи художественные практики кажутся вам сейчас осмысленными? Что бы вы рекомендовали прочитать или посмотреть?
НП: Я читаю сейчас книгу философа и писателя Михаила Куртова «Тысяча лайков земных», это такая радость и красота, и не просто высокая философия – она заставляет жить. Меня поражает, что Куртов – мой ровесник. Его книга о том, как мыслить сегодня. А мыслить нужно на перекрестке временных пластов: прошлым и будущим сразу и ни в коем случае не только настоящим.
Это большая проблема современности: люди тонут в болоте кликбейта, очень трудно эмоционально себя вывести из зависимости от сиюсекундных новостей, посмотреть на свою жизнь хотя бы в пределах десятилетия.
ДЯ: Возможны ли сейчас в публичном поле и в больших музейных институциях проекты, затрагивающие проблемы гендерной теории, например, или такие высказывания возможны в пространствах низовых художественных инициатив или галерей?
НП: Да, возможны. Моя книга «Рождение советской женщины» прямо посвящена этой теме, она выдержала два тиража по 2500 экземпляров и она не является активистским проектом.
Думаю, давно пора отойти от представления о том, что гендерный анализ — это некая низовая субкультура. Проблема вовсе не в «неактуальности» гендера и не в цензуре. А в том, какой угол выбирает исследователь. Работать в России с гендерной темой – это не значит механически собрать что-то по тегу «гендер» и обвесить текст сносками на славистов. Это работа с обществом, вовлечение зрителя, понимание взаимосвязи современного и исторического, то есть, это вопрос научной воли, исследовательской воли, усилия.

ДЯ: Мне кажется, что все-таки есть некоторые художественные практики и исследования, которые невозможны в публичном поле, и это не вопрос воли.:. Как вам кажется, есть ли альтернативные пути работы и что это может быть? Не обязательно же сразу делать выставку. Выставка — это все-таки некий результат, к которому надо еще прийти.
НП: Я и не считаю, что выставка – универсальный ответ на все вопросы. В 2007 году я подготовила к печати часть дневника Ольги Гильдебрандт – очень необычная, независимая женщина в составе группы «13», актриса, которая рисовала и писала для себя. В начале 2010-х я написала статью, где разбираю ее диалог с Мари Лорансен, художницей и что называется музой Гийома Аполлинера. Ленинградцы 1930-х любили их сравнивать. Эту статью прочли только литературоведы, так как Гильдебрандт, по общему мнению, фигура литературная, из круга Мандельштама, Михаила Кузмина. Альтернативно ли это?
Вообще сложных женщин-одиночек в «13» много. Возьмем Надежду Удальцову, Надежду Кашину. По-настоящему объемных монографий о них нет, те книги, что вышли, являются скорее источниками. Как показать их не просто в советском, а в мировом контексте XX века? На мой взгляд, это всегда нужно держать в голове, иначе мы не поймем суть этих явлений.
ДЯ: Да, действительно, у женщин из группы «13» особая позиция. Увлекает и история работы Ольги Гильдебрандт. Хочется взглянуть на них сквозь оптику сегодняшнего дня.
НП: Конечно, искусство Гильдебрандт крайне необычно, и ее фигура не понята. Но боюсь, ей узковата рамка квир-исследований или феминистских исследований. Видите ли, очень долго такой «оптикой сегодняшнего дня» был «русский авангард». Зритель видел этот ярлык и успокаивался: все, понятно. Но для художника это плохо, ведь форма не проявлена, форма не обсуждается. Нужно, чтобы зритель не успокоился, чтобы он понял, что это искусство его задевает, о чем-то его спрашивает — даже через 100 лет. Вот это и есть работа куратора, а не просто расклеить известные термины, на мой взгляд.
ДЯ: Как вы считаете, наши музеи должны пересматривать свои постоянные экспозиции, в равной степени представляя женщин-художниц? В России это еще не сделано, и, как мне кажется, это важный шаг.
НП: Я согласна, что переэкспозиции или монографии о женщинах-художницах нужны, но и эта задача не должна решаться механически. Недостаточно отделить художников от художниц, это лишь закрепляет бинарную схему XX века. Также нет смысла накладывать на советский материал европейскую сетку: женщины-художницы в 1930-х годах в СССР были во многом более независимыми, чем в Европе, советский феминизм имел свои результаты.
Глядя на своих студентов, я вижу, что они мыслят более объемно. Им интересно научно «приподнять» не столько женщин, сколько «женский специалитет» в искусстве: это история фарфора, декоративно-прикладного искусства, мелкой пластики и далее. Из действующих кураторов и историков искусства очень объемно и интересно раскрывает эту тему Ксения Гусева, вспомните ее выставку «Дом Моделей» в Музее Москвы.