

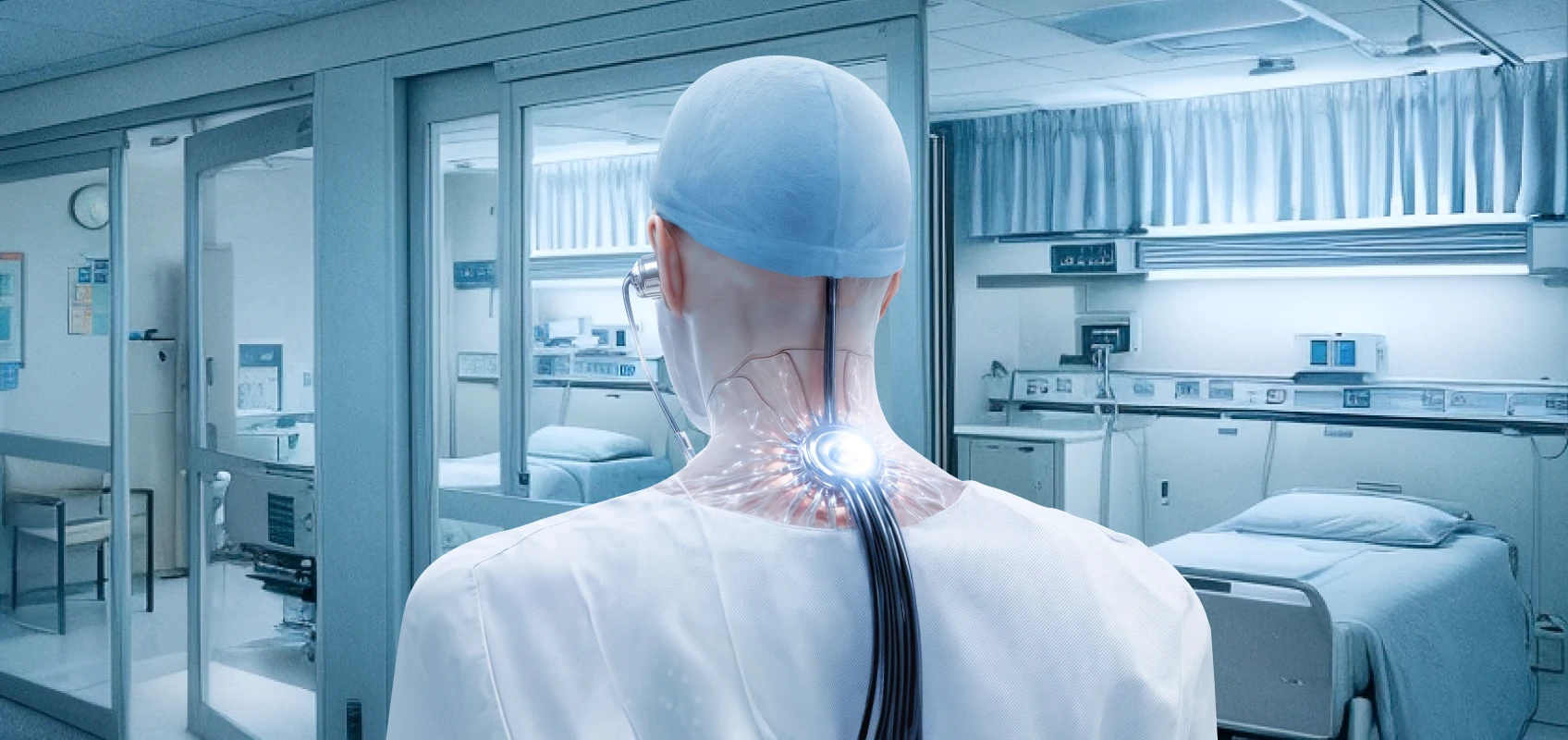
Смысл реформы простой: студенты медицинских вузов, поступившие в ординатуру на бюджетное место, будут обязаны заключить договор о целевом обучении — и отработать три года в государственном учреждении. В случае отказа или невозможности отработки придется выплатить стоимость своего обучения в трехкратном размере (аналогичные штрафы предусмотрены для работодателей).
Остальных врачей, скорее всего, коснется наставничество: для прохождения первичной аккредитации молодые врачи должны будут до трех лет обучаться у более опытного коллеги. Сегодня в России наставничество — добровольная инициатива. Замглавы Минздрава Татьяна Семенова сообщила, что уже обучили больше 70 тыс. наставников.
Сама реформа появилась из-за острой нехватки специалистов в медицинских госучреждениях: около 35% выпускников с высшим медобразованием и 40% со средним не идут работать в государственные больницы и поликлиники. В частности, есть проблема с целевиками: по словам Семеновой, далеко не все студенты остаются работать в медотрасли, предпочитая выплатить штраф, размер которого можно было уменьшить через суд.
{{slider-gallery}}
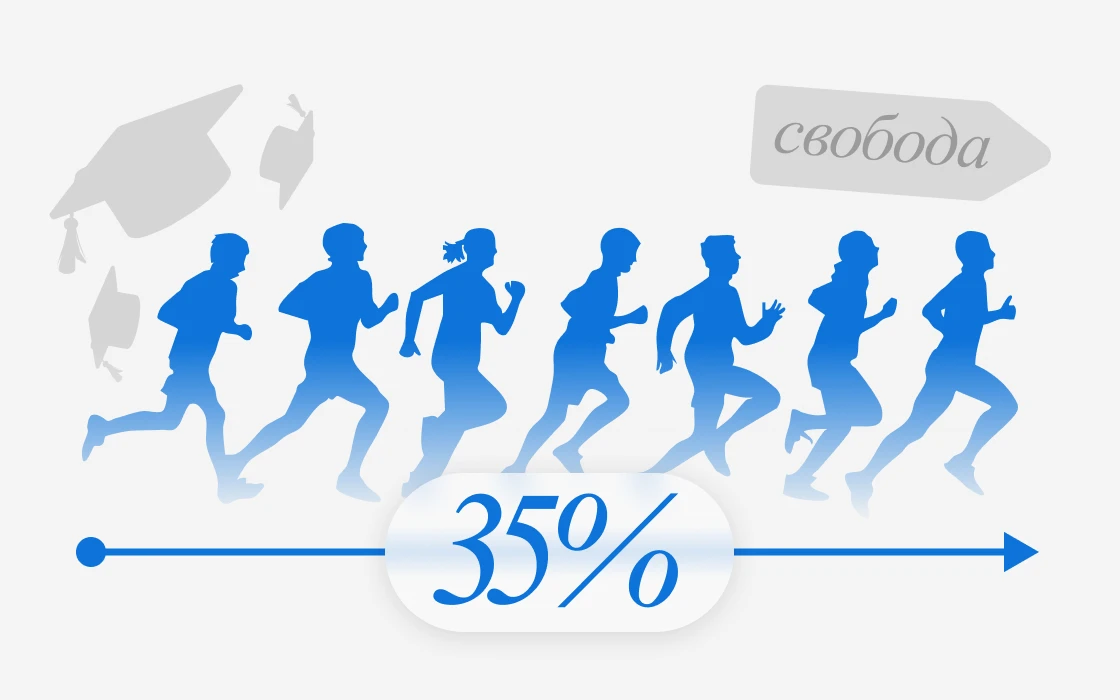
Приближается третье чтение, где будут рассматривать законопроект, — 11 ноября. Студенты медицинских вузов взбудоражены: если реформа будет одобрена, то всем учащимся на бюджетных местах в ординатуре придется заключать контракт на три года. Также студенты возмущены, что им в самом начале карьерного пути грозят неподъемные штрафы.
Величина штрафов действительно серьезная: к примеру, программа подготовки врачей-педиатров в МГМУ им. Сеченова за шесть лет обойдется в 5 313 000 руб. — и штраф составит 15 939 000 руб. Смягчающих обстоятельств для невыплаты нет, согласно последней редакции законопроекта во втором чтении.
Медицинское сообщество настроено негативно — в Telegram появился канал «Отработка для врачей», в описании которого сказано: «Освещаем вопрос закрепощения медработников». В нем уже больше 10 тыс. участников. Пишущие в канал участники возмущены дискриминацией по профессии, а также приводят множество возражений, в частности что врачи и так отрабатывают годы в госучреждениях: например, многие из ординаторов работают по несколько лет, чтобы набрать баллы в ординатуру.
Как отметила исполнительный директор Высшей школы онкологии, член медицинского совета фонда «Не напрасно», онколог-химиотерапевт Полина Шило, опыт других стран, которые похожими способами боролись с нехваткой медиков, мог бы помочь избежать повторения ошибок. Например, в Канаде существуют программы return-for-service — ординаторам или начинающим врачам выплачивают стипендии или гранты в обмен на обязательство работы в сельской или удалённой местности (в ряде провинций срок финансирования может быть до четырёх лет). Однако многие из этих схем не гарантируют, что специалист останется там по окончании обязательства, а практика показывает, что текучка кадров при таком подходе крайне высока.
В Австралии действует аналогичная схема: студенты/врачи получают привязку к обязательству работать в зоне с недостатком кадров; но исследования демонстрируют, что средняя длительность их пребывания на таких местах нередко составляет порядка одного-двух лет.
Эксперты здравоохранения подчёркивают, что эти программы работают на этапе привлечения, но не способны сами по себе обеспечить устойчивое удержание кадров — для этого требуются гораздо более масштабные и комплексные меры.
Профессиональные эксперты в области здравоохранения отмечают, что подобные схемы действительно эффективны для привлечения специалистов в нужные регионы и учреждения на первом этапе. Однако их потенциал для удержания кадров в долгосрочной перспективе крайне ограничен.
Неизвестно, как сработает новая медицинская реформа в России. Мы поговорили с врачами и постарались разобраться в тонкостях нового законопроекта и представить, каким теперь будет медицинское образование.
{{quote1}}
{{slider-gallery}}

{{quote2}}
{{quote3}}
{{quote4}}
{{quote5}}
{{slider-gallery}}
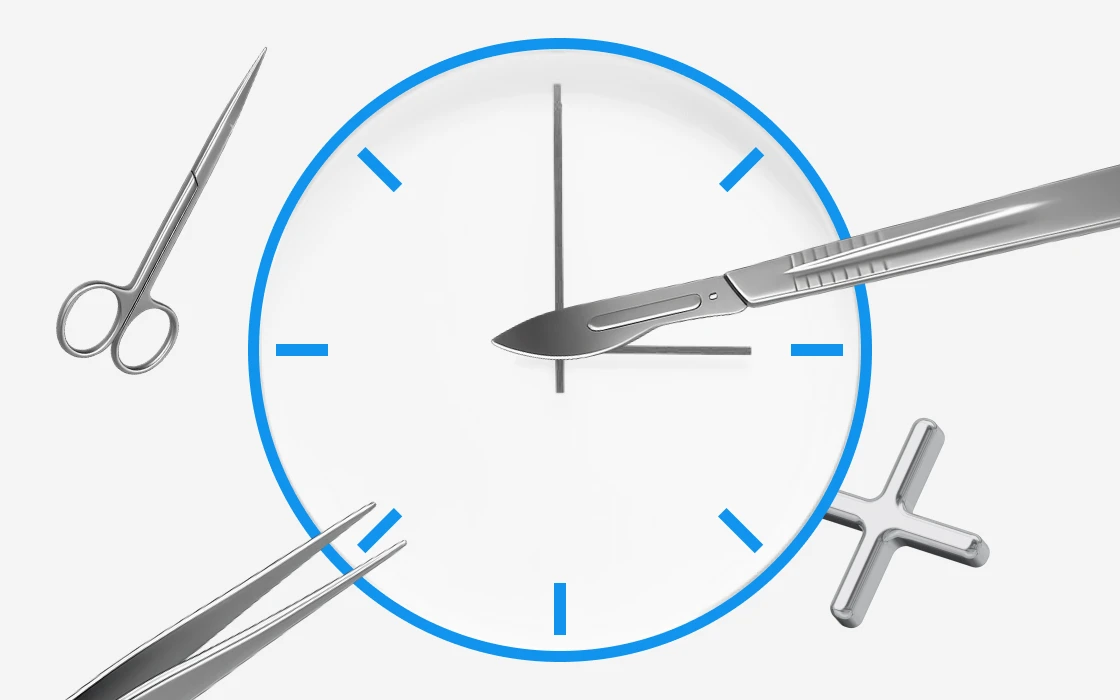
{{quote6}}
{{quote7}}


С одной стороны, хочется сразу сказать, что желающих быть врачами после таких законодательных изменений должно стать сильно меньше. С другой стороны, как мне кажется, все последние годы было много знаков «в медицине будет тяжелее», но конкурс-то не падает. Сделали очень много целевых мест — люди идут; сделали более сложное поступление в ординатуру — люди идут; много новостей об уголовных делах против врачей — люди все равно идут.
Мне кажется, что во многом это связано с тем, что профессия врача уникальная: есть возможность прямой помощи. И многие абитуриенты поступают именно из идеалистических и альтруистических соображений, а в таком случае идея отработки не так сильно пугает. По крайней мере, в 18 лет.

Если бы я узнала, что мне придется отрабатывать после университета, то я бы в медицинский не пошла никогда. Вместо того чтобы создавать нормальные условия для врачей в государственных учреждениях, бюджетников заставляют фактически затыкать собой дыру. К чему это приведет? К тому, что люди просто не пойдут учиться.

Законопроект потенциально действует несколькими способами. Есть часть людей, которые не идут работать врачами после окончания медвуза. Теперь такой возможности у них не будет — придется идти работать, то есть большее количество выпускников реально дойдут до своих врачебных рабочих мест.
Помимо проблемы общей нехватки кадров, есть огромная проблема неравномерного распределения врачей. То есть в Москве в целом нормально, но во многих регионах совсем плохо. Целевые договоры могут помочь распределить людей туда, где больше надо.
Реформа позволяет лучше распределять людей на дефицитные специальности. Медицинские специальности очень отличаются по темпу работы, ожидаемому заработку, возможности уйти в частную практику, сложности пациентов. Есть специальности-фавориты (они, кстати, периодически меняются) и явные аутсайдеры. Например, я мало помню людей, которые хотели бы быть пульмонологами, а вот акушеров-гинекологов просто навалом. Соответственно, государство сможет уменьшить количество вторых и выпустить больше первых.

Я думаю, что реформа снизит в ближайшее время конкурс на поступление в медицинские вузы, потому что традиционно конкурс весьма высокий. Скорее всего, будет ниже уровень кандидатов, которые будут пытаться поступать в медвузы. В долгосрочной перспективе, конечно, это скажется на общем уровне врачей, которые будут работать прежде всего в первичном звене, но и хорошего, к сожалению, в этом мало.
Последствия этих решений мы увидим, скорее всего, через достаточно длительное время, потому что сейчас есть врачи постарше, которые поступали на других условиях. Поэтому некоторое время система продержится. Но то, что будет такая яма в именно компетенциях людей, которые поступают в медицинские, — это почти наверняка.

На мой взгляд, это один из самых больших вопросов к законопроекту. Обучение наставничеству прошли 70 тыс. врачей. Но я лично в качестве этого обучения очень сомневаюсь. Сам преподаю в нескольких образовательных программах и понимаю, что для того, чтобы стать настоящим наставником, нужны специфическое полноценное обучение и желание. Это большая и сложная работа, которая требует отдачи и погружения.
Помимо вопросов к обучению, есть и две важные проблемы. Откуда врачам взять время? Они и так перерабатывают ежедневно. Как уместить еще и роль наставника? Если врачей будут принудительно распределять, то можно представить, какое будет отношение к обучению.
Ну и еще один вопрос: какую ответственность будет нести наставник, если его обучающийся «накосячил»? Если она будет распространяться на наставника, то, боюсь, потенциальная польза (желание обучать и какая-то доплата) не будет перекрывать потенциальных минусов.

После ординатуры я осознанно искала место работы, где будет сильный наставник. Я понимала, что диплома и даже ординатуры недостаточно, чтобы почувствовать себя уверенно в реальной практике. И я нашла такое место. Это была поликлиника, где я могла в любой момент задать вопрос, разобрать сложный случай и получить поддержку.
Я сильно проигрывала в зарплате по сравнению с коллегами, но эти пять лет стали для меня бесценными. Они дали мне не просто опыт, а профессиональную уверенность. После этого я спокойно смогла двигаться дальше.
Поэтому трехлетнюю работу под руководством наставника я считаю огромным плюсом. Для молодого врача такая система — не наказание, а спасение от профессиональных ошибок. Это шанс получить тот самый уверенный старт, который я когда-то искала.

Наставничество — это классная идея, потому что молодой врач нуждается в поддержке опытного коллеги. Но есть опасение, что наставничество может остаться формальностью и превратится в отчеты, которые просто все заполняют в последний день, как дневник практики, и никто никогда потом их не читает. И если государство хочет создать институт наставничества, то его нужно организовать и оплачивать как отдельный трудовой процесс. Нужно вводить критерии для оценки эффективности. Пока не очень понятно, как это будет работать.
