


SETTERS Media продолжает цикл, посвященный вызовам образования. Сегодня мы поговорили с Михаилом Гординым, ректором МГТУ им. Н. Э. Баумана, — спросили, на какие технические специальности ставят абитуриенты и государство, как вузы конкурируют между собой и с ЕdTech-сервисами, что происходит с международным обменом, насколько оправдан уход от болонской системы и без каких качеств не обойтись будущим инженерам.
Сейчас много говорят про технологии и методики, которые изменят образование в будущем. А что происходит в настоящем? Какой настрой у абитуриентов и студентов?
Настрой учиться есть, мы это видим каждый год — по крайней мере, в ведущих вузах. Конкурс из года в года усиливается, интерес к инженерным профессиям только растет. Как минимум третий год подряд.
Понятно, что самые популярные специальности — в ИТ, этот рынок очень разогрет, даже перегрет. Но он потихоньку охлаждается, мы наблюдаем перелом, как спрос смещается от ИТ к чистой инженерии, в пользу конструкторов, проектировщиков. Это не только у нас — в других технических вузах тоже.
{{slider-gallery}}
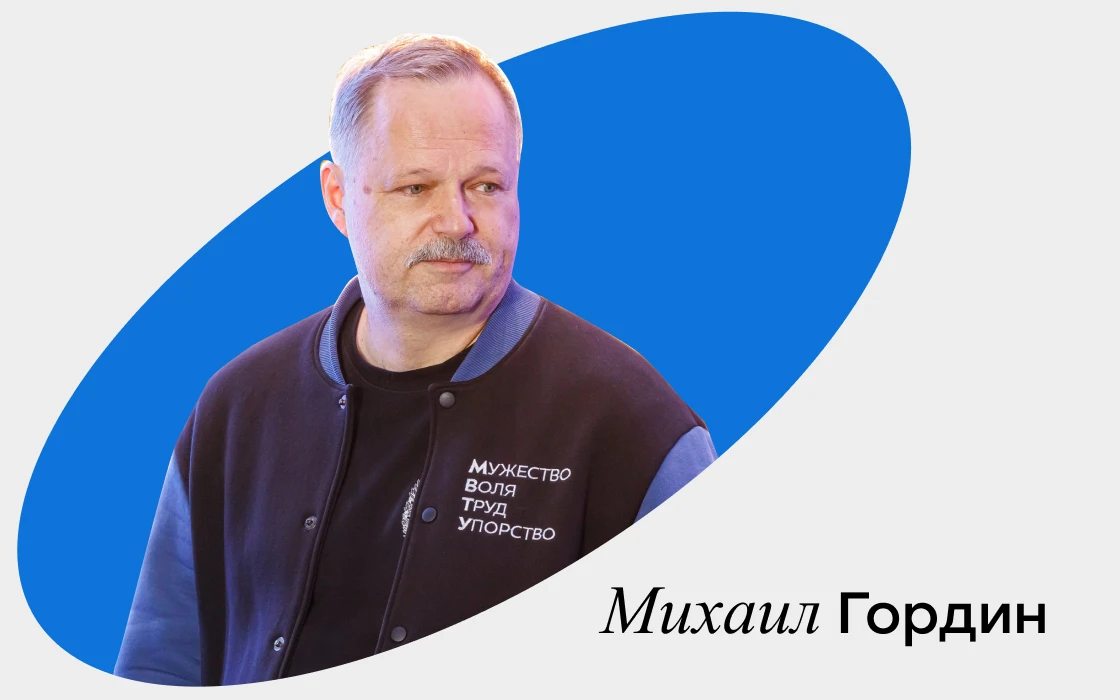
Глобальное внимание к ИТ-специальностям понятно, локальное к инженерии — тоже. Какие конкретные направления пользуются спросом? Есть ли тут что-то неочевидное?
Я бы не сказал, что это уникальный российский сценарий: идет общемировой поворот к инженерному делу. В основном из-за автоматизации рутины — прикладные специальности тут рискуют меньше, вот люди и обращаются к ним. Но, конечно, в России это особенно заметно и связано с национальными приоритетами: сейчас фокус на технологическом лидерстве, в оборонно-промышленном комплексе очень хорошие зарплаты.
В этом году у нас, например, совершенно дикий конкурс на автоматизацию производства — только олимпиадники смогли поступить. Впрочем, конкретно это не столько рыночный тренд, сколько артефакт — просто так разложились целевые и бюджетные места. Еще в этом году у нас сильно вырос спрос на специальность по проектированию ядерных реакторов. Посмотрим, что будет в следующем, устойчива ли тенденция.
В целом сегодня не так важно, какая специальность в дипломе. Мы стремимся готовить инженеров широкого профиля, обладающих знаниями не только в механике, приборостроении и электронике, но и в программировании, экономике. Чтобы человек быстро адаптировался: скажем, если учился авиастроению, мог при желании и лифты проектировать.
Сюда относятся и «мягкие» навыки? Обучаете им как-то целенаправленно?
Абсолютно целенаправленно, только мы не любим клеймить их «мягкими» — предпочитаем говорить о коммуникационно-управленческих, лидерских навыках. Серьезного результата достичь ведь можно только командой, инженерный труд коллективный. Суть ведь не только в том, чтобы что-то изобрести, это еще продать нужно. Нужно уметь разговаривать с заказчиками, понимать нужды рынка, чтобы делать не то, что сам считаешь интересным, а то, что действительно требуется обществу.
В общем, коммуникационно-управленческие навыки — одни из ключевых для хорошего инженера, особенно инженера-руководителя. Если получится выстроить грамотную коммуникацию, создать доверие в команде, она станет на порядок эффективнее, быстрее, конкурентоспособнее.
Какие конкретные шаги предпринимаете, чтобы заложить такие навыки в студентов?
Это больше про воспитание, таким вещам не научить в аудитории. Да, можно дать ребятам прочитать книжку «Как разговаривать с идиотами», но куда полезнее опыт общения и командного взаимодействия.
Поэтому опираемся на фундаментальные научные знания, они же hard skills, а коммуникационные и управленческие навыки раскрываем через личный опыт: работу, практику. И не так важно, проектная это работа, соревнования или отвлеченная деятельность вроде спорта, — главное, чтобы люди вживую налаживали контакты, пробовали чем-то управлять.
Потом этот опыт уже можно систематизировать — прочесть студентам лекцию по менеджменту, например. А преждевременно не вижу смысла.
Насчет практики: многие ваши студенты говорят, что хочется больше возможностей для стажировок. Как сейчас обстоят с этим дела?
На первых двух-трех курсах главное — учиться. К нам приходят в основном вчерашние школьники, привыкшие к упорной зубрежке. Им нужно продолжать получать фундаментальное образование. Да, оно бывает оторвано от практики, но именно так тренируется мышление, закладываются причинно-следственные связи.
Как только студент уходит в практику, фундамент уже не впихнуть: неизбежно возникает вопрос «Зачем мне это?». Человек понял, что уже может получить какую-то выгоду от своих знаний, может заработать, — и его затягивает. Студенты, конечно, рвутся туда, но мы пытаемся их сдерживать, потому что без базы дальше развиваться сложно, а они это осознают лишь спустя годы.
При этом дозированная практика нужна, чтобы не терять интерес. После третьего курса народ невольно начнет думать: «Зачем я здесь, если вон друзья в другом универе уже гайки крутят, а я тут еще интегралы считаю?» Так что с первого курса вводим небольшие практикумы: учим точить на станках, варить, паять, собирать компьютеры — пусть это не всегда про специальность, зато отлично знакомит с реалиями мира инженеров.
{{slider-gallery}}
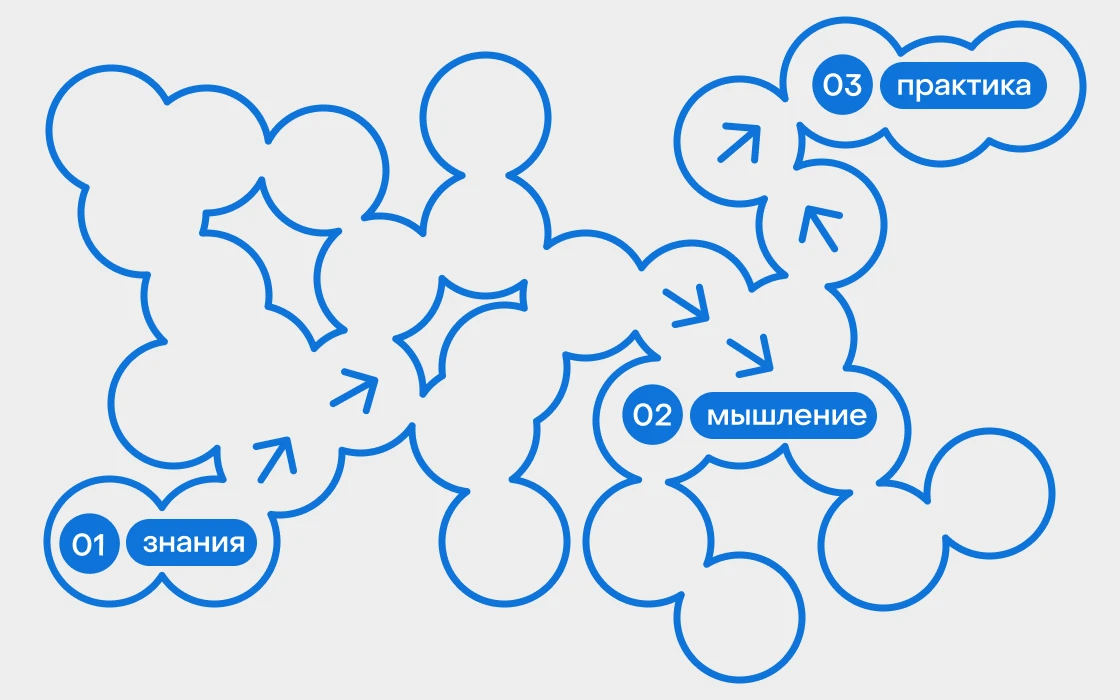
А что на средних и старших курсах?
Там уже профильная, полноценная практика. И мы приветствуем, когда ребята параллельно подрабатывают — так они пробуют себя не только в образовательных, но и в производственных отношениях: у них появляются первые коллеги, заказчики и начальство. Это облегчает жизнь после университета.
Собственно, у нас на старших курсах абсолютное большинство работает — около 85% студентов. Другой вопрос в том, что не все по специальности, примерно семь из десяти. Но даже если будущий механик подрабатывает риелтором, он все равно тренирует навыки. Так что радуемся, когда ребята находят подработку по профилю, но и винить за желание зарабатывать как-то иначе не собираемся.
Где обычно проходят профильную практику? В основном в столице — или выезжаете?
Недавно изменили подход. Раньше, чтобы сэкономить, проводили практики в Москве, иногда прямо на кафедрах. Сейчас же просим факультеты по возможности ездить на предприятия по всей стране: это очень важно — понимать, что находится за МКАД.
А так у нас заключены сотни, если не тысячи договоров с промышленными предприятиями разного масштаба — подбираем практику всем, но студенты могут найти что-то и сами.
Есть расхожее мнение, что в Бауманку проще поступить, чем ее окончить. Сколько студентов доучиваются?
Считать непросто: помимо отчислений, есть восстановления, академические отпуска и возвращения. Поэтому это две разные цифры — без пауз и с паузами (у нас есть и рекордсмены, учившиеся по 10–12 лет!). В среднем 15–20% отчисляем, и примерно столько же уходят в академ. Но многие упрямо возвращаются — в итоге 79% поступивших доучиваются, пусть не все в срок.
В советское время это было почти слоганом: «В Бауманку легко поступить, но трудно учиться». Недавно один из наших выпускников обновил это выражение, сказав, что раньше было легко поступить и трудно учиться, сейчас поступить трудно, а учиться еще труднее. Наверное, он прав. Относительно просто попасть лишь на внебюджет и на не самые популярные специальности.
Учиться у нас и правда сложно. Я обычно говорю: чтобы не вылететь из Бауманки, нужно обладать либо талантом, либо трудолюбием. Но если нет ни того, ни другого, шансов никаких.
При скачке спроса на инженерные специальности логично ждать меньше отчислений. Так и происходит?
Отток связан не со спросом, а с качеством абитуриентов. Формально, раз входной балл ЕГЭ растет и конкуренция жестче, первокурсники должны быть мотивированнее и реже вылетать. По факту отчисления все равно идут, особенно до третьего курса, после это уже редкость.
Кто уходит? Те, кто не справляется с давлением и необходимостью на 100% вкладываться в обучение. В Бауманке о веселой студенческой жизни первые два года можно не мечтать. Я сам студентом спал по четыре часа — это нормально для такого вуза.
Дальше становится легче: понимаешь структуру загрузки, в каком режиме нужно работать, чтобы все успеть, как управлять временем — в общем, уже умеешь учиться.
{{slider-gallery}}

Как на этом фоне ощущается конкуренция со стороны корпоративных игроков, EdTech-платформ, которые обещают быстрый прикладной результат? Сложно ли удерживать статус «первого» технического университета?
Я бы сказал, конкуренции не чувствуем вообще. Пусть обещают что угодно — посмотрим на результат через 200 лет.
Конечно, есть современные подходы к обучению, те же сертификаты в ИТ. Но мы же учим не эксплуатации конкретной системы, не программированию внутри одной среды и не обслуживанию какой-то базы данных: мы даем фундаментальные инженерные знания — базу, с которой потом можно самому научиться всему.
Поэтому и сравниваем себя не с коммерческими вузами и курсами, а с теми, кто тоже дает основу: с Физтехом, МИФИ, ИТМО, Санкт-Петербургским политехом; из мировых — с MIT в Кембридже и Imperial College в Лондоне. Не потому, что «мы лучше», а потому, что цели разные.
Как тогда дела с соперничеством с другими традиционными вузами?
Честно говоря, это тоже нас не сильно волнует. В отличие, скажем, от Физтеха, который целится в «самых-самых» через олимпиады и ЕГЭ, нам в первую очередь нужны люди, которые мечтают стать инженерами. Это даже ценнее, чем талант: чтобы стать хорошим инженером, гением быть необязательно — достаточно быть хорошим организатором и коммуникатором, да просто соображать хорошо. В этом деле же ведь главное — не открытия делать, а качественно продукцию производить, правильно процессы организовывать.
Еще можно вспомнить про такой показатель, как «любовь» работодателей, — он более ощутим, его видно в рейтингах. Что ж, по мнению российских работодателей (особенно из ИТ), мы номер один, выше МГУ*. Хотя в общем рейтинге вузов они нас обгоняют — там подтягиваются и другие факторы вроде научных публикаций, нобелевских лауреатов среди выпускников и тому подобного. Но для нас важнее, сколько генеральных конструкторов у нас училось, сколько сложнейшей техники создано.
{{slider-gallery}}

А что с «внешним контуром»? Кто теперь ваши главные международные партнеры и в каких форматах работаете?
Сотрудничаем с «дружественным поясом»: Китай, Вьетнам, страны Юго-Восточной Азии, арабские страны. С другими странами тоже готовы общаться, но готовы ли они — большой вопрос. Иногда в частном порядке коммуникацию ведут, а официально — нет.
Своих студентов системно за рубеж пока не отправляем — чаще по запросу: если кто-то находит себе программу или работу за границей, мы составляем индивидуальный план и позволяем отучиться там и потом доучиться здесь. Зато немало иностранцев учим, их около 5% всех наших студентов, а целимся в 10%. Тут есть общегосударственная планка: сейчас иностранных студентов по стране под 400 тыс., а планируется 500 тыс. к 2030 году.
Во-первых, это про мягкую силу и глобальные связи. Во-вторых — про мировую конкуренцию за мозги: тут наш ориентир — чтобы 20% иностранных студентов оставались работать в российских компаниях. Для этого запартнерились с «Ростехом» — их представители в 12 странах помогают отбирать нам абитуриентов за рубежом. В-третьих, смешанные группы обеспечивают прививку от ксенофобии.
Что насчет совместных научных проектов?
Международных научных проектов сейчас мало, это не наша основная цель, хотя направление развиваем. Например, в этом году с пекинским университетом Цинхуа договорились запускать спутники для метео- и климатического мониторинга: вот недавно разработали дорожную карту, а со временем, надеюсь, будем вместе анализировать выбросы углекислого газа и изменения климата.
Какие главные вызовы видите для Бауманки в ближайшие годы?
Первое, что приходит в голову, — это деньги. Мы хотим привлекать лучших преподавателей, а зарплаты растут значительно быстрее, чем государственное финансирование. Да, часть дефицита покрывается за счет небюджетных студентов, но боль остается.
В том числе это связано с нашим новым кампусом. Не могу сказать, что это супервызов, но важная хозяйственная задача.
Второй вызов касается разрыва между учебой и реальным производством. Дело в том, что качественное техобразование, тот самый «русский метод обучения ремеслам», который в Бауманке родился еще в XIX веке, стоит на трех китах: сильной фундаментальной подготовке, обилии практики и живой связке с промышленностью. На них мы и стараемся опираться, для этого активно строим то, что называем научно-производственным контуром: не только передаем знания, но и сами развиваем науку, делаем разработки, коммерческие в том числе, — у нас даже есть серийное производство. То есть стараемся, чтобы весь путь продукта проходил на территории вуза. Чтобы это поддерживать, преподаватели должны быть не только профессорами, но и действующими инженерами, а «аудиторию» и «цех» совместить ой как непросто.
Третья проблема — в глубинном недоверии между нашими промышленниками и университетами. В том смысле, что вузы способны не только обучить, но и произвести конкурентоспособный продукт. Бороться с этим можно только одним способом: потихоньку растить доверие потенциальных заказчиков, развивать научно-производственный контур. Для этого, например, думаем уменьшить норму часовой нагрузки на преподавателя, чтобы он мог больше заниматься практической работой.
Чем отвечаете на эти вызовы на уровне учебных планов? Что меняли за последние годы, чтобы выпускники оставались максимально востребованными?
Планы каждый год меняются: все время что-то добавляем или убавляем. Но обычно без каких-то фундаментальных изменений.
Исключение было два года назад: мы ввели шестилетний бакалавриат по ряду специальностей. Когда заговорили об общем продлении сроков высшего образования, пилот на шесть вузов прошел мимо нас — и мы воспользовались правом формировать собственные стандарты по образовательным программам. Потому что всегда считали, что система «четыре + два года» слабо работает в сложных специальностях — не зря медики от этого отказались. И не зря в большинстве оборонных направлений держится специалитет. Нужно освоить фундаментальную базу, а потом заниматься отраслевыми и практическими вещами: неизбежны не очень хорошие компромиссы, когда пытаешься ужать это все в четыре года.
Тут можно возразить, что вот на Западе за этот срок инженеров успевают готовить. Но там другая схема подготовки, все начинается еще со школы. Для нас обязательный шестилетний трек все-таки логичнее.
Вы упомянули новый кампус. Расскажите, что в нем самое интересное, новаторское?
В прошлом году нам достроили 14 новых корпусов, добавили к университету 170 тыс. кв. м, и масштаб стал совсем другим. Больше всего мы нарастили площади под лаборатории и науку; аудиторий стало больше на 17% — с расписанием теперь полегче. Еще очень радует, что добавились общежития — современные, удобные. Я когда туда впервые зашел, помню, подумал: «Чтоб я так в свои студенческие годы жил!»
А из лабораторий особенно восхищает «Квантум-парк». Мы пока его оснащаем, но, как мне кажется, это уже одно из самых технологичных зданий в Москве: оно спроектировано с учетом требований по виброизоляции, электромагнитной совместимости и прочему, чтобы можно было заниматься микроэлектроникой с нанометровой точностью. Это сложнее, чем построить безопасный стадион, например.
{{slider-gallery}}


Иногда иду по новому кампусу и ловлю себя на мысли: «Не верится, что это Бауманка». Недавно устраивал экскурсию знакомому — тот тоже сказал: «Ну это даже уже не Европа и не США». Действительно, тут, в районе Бауманской и 2-й Бауманской, совсем все современно, даже футуристично: подсветка, тротуары, инфраструктура. Для нас это знак: сейчас государство по-настоящему вкладывается в инженерное образование.
* Прим. ред.: речь о субрейтинге RAEX «Лучшие вузы по уровню востребованности выпускников работодателями» за 2025 год. Общий рейтинг российских вузов RAEX можно посмотреть тут.

